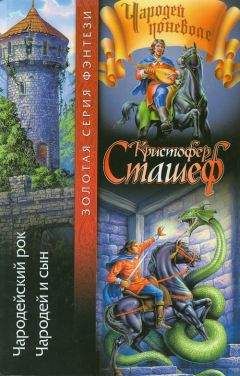— Да будет так, — дружно проговорила толпа.
— Воистину, да будет так! — вскричал епископ. — Но отец, который взрастил Рануффа таким дерзким и нетерпеливым, непослушным и безбожным, никчемный родитель, поощрявший безмерное и богохульное недовольство своего чада, заслуживает тяжкого наказания до конца дней его!
Седой коренастый крестьянин поднял голову, посмотрел на епископа. Лицо его было каменным, взор — непроницаемым.
— На колени, несчастный! — громогласно возопил епископ, неожиданно побагровев. — Молись о том, чтобы Бог простил тебя, помиловал за то, что ты увел с пути истинного порученную твоим заботам душу!
— И это называется утешением? — возмущенно пробормотал Род.
Отец Рануффа медленно покачал головой.
— Не я увел его с пути истинного, а те, что проповедуют смирение, а сами ведут себя нагло.
— Грешник! Отступник! — взревел епископ. — Как смеешь ты так говорить о тех, кто отдает всю жизнь свою служению ближним?! Изгони дьявола, вселившегося в твою душу, и научись смирению, о котором говоришь! — Он развернулся и воззвал ко всей пастве: — Отныне никто в нашей деревне Веальдебинде не смеет разговаривать с этим человеком по имени Робле, а кто заговорит — будет объявлен грешником! Пусть все сторонятся его, пусть все от него отвернутся, дабы он не заразил своим безбожием других!
Люди зароптали, попятились, отступили подальше от отца Рануффа.
— Да живет он впредь, лишенный бесед с ближними, покуда не осознает своей греховности! — вскричал епископ. — А если он попытается заговорить с кем-то из вас, притворяйтесь глухими! Если же он попросит кого-то из вас о помощи, отвернитесь от него, как будто вы слепы! В гордыне своей от отошел от Бога…
— Да не от Бога! — зычно воскликнул крестьянин. — Ты лжешь, наглец, и сам знаешь, что лжешь!
— Заткните ему рот! — взвыл епископ, и к Робле тут же подскочил крестьянин и схватил его за руки, а другой ударил несчастного отца по губам.
— Впредь не смей раскрывать рта! — прокричал епископ и наставил на Робле указующий перст. — А посмеешь — никто не услышит твоих искусительных речей! Ступай прочь и живи так, словно ты мертв! — Он вновь обратился к пастве: — Возлюбленные мои чада, давайте вернемся к нашим повседневным трудам, и да не свернет с пути истинного в нашей деревне более ни одна душа, как то сделал Рануфф! И пусть наше милосердие проявится в том, что мы будем строги к слабым духом братьям нашим! Возвратимся же теперь в дома и на поля наши, дабы туда не ступила нога дьявола!
С этими словами епископ зашагал к деревне. Алтарники, священник и монахини поспешили следом за ним, развернулись и торопливо зашагали в ту же сторону прихожане. Никто даже не оглянулся, чтобы посмотреть на осиротевшего отца, застывшего около холмика свежей земли — всего, что осталось от его сына. Звуки песнопения затихли и смолкли вдали.
Магнус был готов что-то сказать, но Род удержал его, коснувшись его плеча. Старик остался совсем один, и некому было его утешить, кроме ветра. Робле не отрывал глаз от могилы. Вдруг он заговорил — сначала совсем тихо, потом громче:
— Вот ты и лежишь теперь тут, сынок, прямо рядом с лесом, куда ты так любил убегать. А почему ты так любил убегать? Да хотя бы для того, чтобы уйти подальше от них, чтобы не лезли они в твою жизнь со своими подглядками да приставаниями, не винили бы тебя ни в чем, не попрекали бы. Но теперь их больше нет, сынок, теперь они тебе больше не сделают больно. Их нет, вот только память твою они запятнали, как могли. Сделали из тебя пугало для детишек — вот только не подумали, что сами стали похожи на пугало. Но нету их теперь, а твоим страданиям конец. Кончены твои мучения.
Вдруг взгляд старика наполнился гневом.
— Да чтоб его повесили, его милость, епископа этого! Если это называется добротой, то уж пусть я лучше буду злой! Надо же было так запугать детишек видениями геенны огненной, да еще присобачить эти видения к законам, которые он сам и выдумал! Только и делает, что орет на детей да твердит им, что они родились порочными, что должны изгонять из себя зло, а потом принимается улыбаться и учит детей добродетелям и милосердию! Твердит им, что вера — это дар, а потом винит их в том, что никакой веры у них нету! И ничегошеньки делать нельзя, кроме того, что он велит! О, какой я был глупый, что позволил ему измываться над тобой! Надо было не слушаться твоей матери, забрать тебя да и убежать в лес! И к монахиням не надо было пускать тебя! Увел бы я тебя от них — так не успели бы они тебе вбить в голову, что ты грешник уже потому, что мужчиной родился! И не надо было мне слушать, как священник твердил тебе, что ты должен жениться и родить детей — понравится тебе девушка или нет. Надо было бежать нам с тобой в чащу леса, и пусть бы нас там сожрали волки. Уж лучше волки, чем эти шакалы в человеческом обличье, которые кормятся душами людскими! — Слезы потекли по щекам старика. — Но теперь они больше не обидят тебя, сынок, хотя только одному Богу известно, как мне худо без тебя! Отмучился ты, бедняжка! И зачем я только женился! И зачем только породил тебя!
Род не выдержал. Он вздрогнул, взял Магнуса под руку и увел к лошадям.
— Получается, что мы подслушиваем нечто слишком личное. Пусть бедняга побудет наедине со своим горем.
Магнус испытующе взглянул на отца, но тут же отвел взгляд и вспрыгнул в седло. Они поехали рядом, но взгляд у Магнуса стал таким рассеянным и отстраненным, что Род понял: его сын продолжает слушать мысли несчастного, горюющего крестьянина. Он хотел было упрекнуть Магнуса, но вспомнил о том, что теперь его сын совсем взрослый, а раз так, то и с совестью у него все должно было быть в порядке. Но то ли совести у Магнуса на самом деле не было — и в этом случае Род уже ничего не мог поделать, то ли, наоборот, именно в силу совестливости Магнус продолжал следить за мыслями старика: вероятно, что-то насторожило его. Что-то такое, что ускользнуло от Рода.
К примеру, он почему-то желал, чтобы все узнали, что церковники сотворили с его сыном.
Если так, то почему он не кричал об этом во всеуслышание на похоронах?
Потому что боялся.
Боялся? Церковников и монахинь? Людей, преданных доброте и милосердию?
Это представлялось маловероятным, но Роду пришла на память инквизиция в Испании, крестовые походы против альбигойцев, костры в Смитфилде, и он отказался от поспешных суждений. С другой стороны, эти церковники выглядели уж как-то откровенно доморощенно. Вполне можно было допустить, что насаждаемые ими догматы веры сильно отличались от тех, к которым привык Род. Он подумал и вдруг вспомнил, что епископ ни разу не упомянул имени Иисуса Христа.
Но правду сказать, и в тех обвинениях, которыми Робле осыпал верующих, не желавших отступаться от своих убеждений, большой справедливости не прослеживалось.
А как быть с отступниками?
Род мельком взглянул на сына и решил не беспокоить его.
Род вздохнул и натянул поводья.
— Вряд ли когда-нибудь согласимся с тобой в этом, сынок, — проговорил он, наконец нарушив молчание.
— Но у них есть право на то, чтобы ими управляли так, как они пожелают! — воскликнул Магнус. — И если они хотят, чтобы такой тиран, как этот священник, орал на них, как безумный, если они хотят, чтобы он подавлял их волю остракизмом, кто мы такие, чтобы говорить им: «Нет, вы не должны так жить!»?
— Мы здравомыслящие люди, вот кто мы такие.
Магнус собрался возразить, но сдержался и промолчал, но Род на долю мгновения успел уловить обрывок мысли, не оформившейся в слова, и покраснел.
— Чья бы корова мычала — ты это хотел сказать? Прости, сынок, проедусь-ка я, пожалуй, один пока. В конце концов мне не обязательно присматривать за тобой.
— Я не то хотел… — начал Магнус, но не договорил. Отец верхом на Вексе уже скрылся среди деревьев. Обида и возмущение охватили Магнуса. Однако в следующее мгновение он улыбнулся, поняв, что в одном он с отцом согласен — в том, что отец не должен кружить над ним, словно ястреб.
С этой мыслью он продолжил путь, но все же чувствовал себя виноватым в том, что обидел отца.
— Не стоит горевать, когда поступил правильно, юный чародей.
Магнус вздрогнул от неожиданности. У края тропы стоял старьевщик с торбой, переброшенной через плечо. Магнус сердито прищурился.
— Что ты тут делаешь? Изыди!
— А я думал предложить тебе кое-что такое, что тебе надобно. — Старьевщик снял с плеча торбу, порылся в ней и вытащил золотую цепочку, на которой болталась подвеска. — Вот она, неприкосновенность для твоего сердечка! Чтобы ни одна девица во веки веков не смогла завладеть им, терзать и мучить его!
Магнус прищурился еще сильнее, стараясь лучше разглядеть подвеску, но она качалась и вертелась в лучах солнца, и из-за этого рассмотреть ее было трудно.