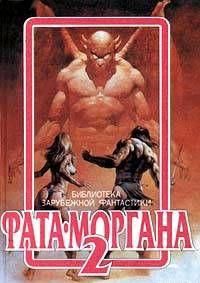Внезапно от центра этого зеркала, где происходила вся феерия, разбежались радужные круги, и в нём отразился коридор. Он словно длинный рубленый колодец протянулся вглубь зазеркалья прочерченными квадратами множества других зеркал. Там в его чреве что-то заворочалось. И Семён вскоре разглядел очертания младенца, тянувшего к нему ручонки. Поднявшись на ещё не окрепшие ножки, малыш пошёл по коридору, направляясь к смотревшему на него Погодину. По мере приближения неуклюжие шажки становились всё более уверенными, теперь уже ребёнок спешил, учащая шаг, вскоре перешедший в бег.
Семён теперь ясно видел, как встречный ветерок трепал золотые кудри волос, открывая уже юношеское лицо. Приближаясь всё ближе и ближе, юноша простирал к Погодину руки, словно желая заключить его в объятия.
Юношеское лицо изменялось с каждым движением, черты мужали, взрослели, и, наконец, перед художником предстало его собственное отражение.
Через минуту оно стало медленно таять и вскоре исчезло, а на его месте из темноты неожиданно появился исчезнувший портрет незнакомца. Слезящиеся глаза на портрете прищурились из-под насупленных бровей и окружились россыпью морщин. Взгляды Погодина и незнакомца встретились.
Семён вздрогнул, холодок пробежал по спине и обдал жаром. Кроме этих глаз, казалось, в мире не существовало больше ничего – кругом только пустота и пара глаз, смотрящих в упор, бездонную глубину которых он узнал бы из тысячи.
Незнакомец сделал жест рукой, приглашая художника подойти ближе. Погодин прильнул к ледяному глянцу стекла.
Вдруг глаза, смотревшие из зазеркалья, слились в один, который стал разрастаться в большое пятно. Теперь Погодин видел сияющий клочок неба, звонкий, головокружительный, чудесно голубой, вобравший в себя чистоту ручьёв и озёр.
Семён, не отрывая взгляда от происходящего чуда, буквально тонул в нём, впитывая его синеву.
Яркий луч солнца рассёк лазурную гладь, и небо распахнулось, словно створки ворот, открывая холодный провал бесконечности, по которому простиралась залитая серебряным светом лунная тропа. И чем дальше тропа уходила в зияющую глубину чёрного бархата, тем тоньше и прозрачнее она становилась. И всё то, что было снаружи, и то, что оставалось внутри, отделялось зеркалом – так же вечно и непреложно, как вчерашний день отделяется от сегодняшнего.
Погодин ударил рукой в эту преграду, в этот барьер, в эту границу бытия. Зеркало разлетелось вдребезги, ослепляя разноцветным каскадом брызг. Поток холодного ветра хлынул в лицо.
У Семёна перехватило дыхание. Выступившие слёзы жгли глаза. И вдруг он ощутил необыкновенную лёгкость. Будто с плеч упали свинцовые гири. Необъяснимая внутренняя свобода разлилась по всему телу тёплой волной. Охваченный безумной догадкой, Погодин ринулся в зовущую бездну. Подхваченный то ли неведомой силой, то ли порывом ветра, он взлетел. Щемящая сердце смутная тревога и опьяняющее чувство полёта слились воедино.
Он летел птицей, окунаясь в купель звёздного света, кричал и рыдал, как маленький ребёнок, только что явившийся на свет.
Тьма распахнулась, уступая ему дорогу, и окутанный колыбелью пространства, поднимаясь всё выше и выше, он уносился по серебряной тропе, ведущей к преддверьям великого таинства.
За окном зарождался день. Небо на востоке разгоралось, загоняя в подвалы Москвы ночь. Первые томные лучи солнца тронули позолотой крыши домов, скользнули в лабиринты улиц, забрезжили на окнах.
Проникнув через прокуренный желтоватый тюль в жилую комнату, служившей также и писательским кабинетом Сумелидию И. С., лучи коснулись пушистых ресниц литератора, и ласково лизнув его чело, окроплённое утренней испариной, отбросили греческий профиль на умопомрачительные обои в каштановую полоску, сплошь усаженную лавровым листом.
Ираклий Сократович мирно посапывал, развалившись в кресле-качалке, служившем ему в литературных потугах седлом Пегаса. Он причмокнул, слизнув с губ влагу пущенных во сне слюней и открыл воспалённые глаза. Затем Ираклий встал, судорожно зевнул и на цыпочках проследовал в угол комнаты, куда им были брошены домашние тапочки в попытке спугнуть серого грызуна, бесцеремонно явившегося после полуночи. Запихнув в них ревматические ноги, он зашаркал к письменному столу, зелёное сукно которого всё сплошь было изгажено чернильными кляксами. Сумелидий взял из сахарницы ложечку, аккуратно извлёк из фаянсовой чашки фамильным серебром изрядно насытившуюся вчерашним чаем разбухшую муху, и нисколько не смущаясь утопленницы, отхлебнул глоток.
В этот тихий ранний час, когда в открытую душной ночью форточку, ещё лениво потягиваясь, выползла на улицу утренняя сладкая дрёма, когда настенные ходики, мерно тикая маятником, ещё не разбудили ото сна кукушку, в дверь оглушительно забарабанили. Да так, будто в неё с треском ударил гром, и его раскаты дребезжащим эхом заметались по комнате, заухали в углах.
Ираклий похолодел. Ходики зажужжали пчелиным ульем, и стрелки часов рванули по кругу. Очумевшая кукушка вылетела, как ужаленная, из-под стрешни домика и зашлась в надрывном кряканье, будто контуженная взрывом гранаты утка.
– Тихий ужас! – проливая на стол остатки чая, прошептал слабеющий в ногах Ираклий Сократович.
Казалось, что этому кошмару не будет конца, но грохот всё же прекратился. Кукушка, оборвав крик, повисла на пружине, печально покачиваясь безжизненной тушкой.
– Это я, ваша соседка, Вихляева, – раздалось за дверью.
– Не спится?! – проскрипел зубами Сумелидий, но подумал отнюдь нецензурно. Зло сплюнул и добавил: – Прости Господи!
– Никак разбудила? – послышалось из коридора слабое извиняющееся мурлыкание.
– Разбудила, разбудила… Пожар, что ли? – раздражённо пробухтел Ираклий, вытирая со стола лужу подолом халата.
– Хуже! Гораздо хуже! – ответила соседка, будто расслышав его причитания. – И откройте, наконец, дверь, не томите женщину ожиданием!
Освежая лицо мокрым подолом, Сумелидий пошлёпал открывать входную дверь.
На лестничной площадке стояла унтер-офицерская вдова глубокого бальзаковского возраста. По молодости гражданка Вихляева работала заместителем администратора Большого театра, но будучи давно уже на пенсии, перешла на службу в Малый – билетёршей.
– Слышали вчерашние новости? – начала она с порога.
– Да я и сегодняшних-то ещё не слышал, – замотал больной головой Ираклий.
– Не мудрено, так всё на свете проспите. Вот и врагов под боком проспали!
– Каких врагов? – опешил Сумелидий.
– Вчера в нашем доме фальшивомонетчиков ловили. Правда, никого не поймали, они как сквозь землю провалились, но факт остаётся фактом. И сосед ваш по коммуналке, Андрей Кузьмич, куда-то тоже подевался. Он, случайно, не у себя дома? С самого утра ищу его, подлеца!
– Так вот оно что! То-то со вчерашнего дня в его комнате тихо было, никаких признаков жизни и завываний про «Паровоз» и «Смело, товарищи, в ногу» не доносилось. Это наводит на мысли…
– Значит, отпелся голубь, – с горечью в голосе вздохнула Вихляева. – А у меня холодильник сломался.
– А при чём тут холодильник? – изумился Ираклий.
– Так Кузьмич починить его обещал. Я даже ему авансом четверть литра чистейшего первача дала.
– Сочувствую!
– Позвольте спросить, над чем вы сейчас работаете, или, фигурально выражаясь, червячка литературного чем заморить решили? – поинтересовалась соседка.
– Да так, ерунда, всякое разное. Себя бы прокормить, не то, что червячка.
Вихляева заглянула в глаза Ираклия Сократовича.
– Кстати, вы завтракали? – И, не услышав утвердительного ответа, продолжила: – Вижу, что нет! Я знаю, вы редьку любите, так вот, я могу вам предложить сыр с очень пикантным душком, ни в чём не уступающим редьке.
Ираклий скривился:
– Благодарю, знаете ли…
– Так я не поняла: «да» или «нет»? Что Вы всё как-то не договариваете?
– Скорее «нет-с», чем «да». Я, видите ли, с утра только яйца сырые пью.
– Фу-у-у-у! Гадость какая! Терпеть не могу! Б-р-р-р… – на сей раз скривилась Вихляева. – Кстати, о яйцах. На днях у нас в театре забавный казус приключился.
– Спасибо, но в другой раз расскажете, меня, понимаете ли, дела ждут.
Показывая, что разговор окончен, литератор двинулся на неугомонную соседку грудью.
– Ну что вы, что вы, послушайте, исключительно занятная история. Только представьте себе: осветитель сцены Горбатых, просто душечка, что за прелесть, сердобольный такой мальчишечка, ну лапочка-лапочкой, – чмокнула воздух Вихляева. – Когда напакостит, всегда краснеет, как невинная роза. Так вот, он был подкуплен Анджиевским, тем самым, который с треском провалился на премьере. Бездарность! Поганец из поганцев! Естественно, его роль отдали другому, а он в отместку за это, на второй показ, яйца тухлые принёс, и Горбатых подавил их за сценой. И по мере распространения запаха зрители стали выбегать из театра, а актёры потребовали прибавку к зарплате за работу во вредных условиях. Искали инженера по гражданской обороне, но не нашли. Назревал скандал. Дело приобретало скверный характер.