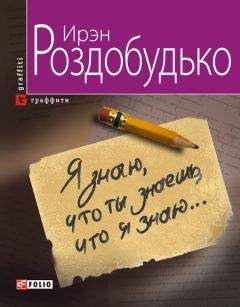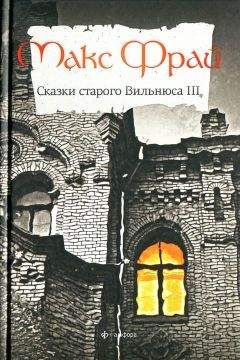Аркадий Аверченко
Фабрикант
— Знаю, знаю я, зачем ты на дачу едешь.
— Да, ей Богу, отдохнуть!
— Знаем мы этот отдых.
— Заработался я.
— Знаю, как ты заработался! Будешь там за всеми дачницами волочиться
Писатель Маргаритов сделал серьезное лицо, но потом махнул рукой и беззаботно засмеялся.
— А ей Богу же, буду волочиться. Чего мне!
— Вот видишь, я говорил. За кем же ты думаешь?
— За всеми.
— Послушай… а я?
Маргаритов рассеянно скользнул глазами по лицу писателя Пампухова.
— Ты? А ты как знаешь. Ведь ты раньше меня едешь?
— Раньше, — сказал Пампухов.
— Ну, и устраивайся, как знаешь.
Это было превосходное дачное убежище. В некоторых местах было море, в некоторых сосны, в некоторых песок. Море шумело, сосны шумели и только песок лежал смирно.
Дачников было много, но так как песку, сосен и моря было еще больше — все были довольны.
Маргаритов приехал через три дня после Пампухова и сейчас же ориентировался. Познакомился с соседкой и, расхвалив ей какой-то морской уголок, которого он до этого и в глаза не видал — повлек несчастную к этому таинственному уголку.
— Вот, — сказал он, беря дачницу за руку и усаживая ее на песок. — Вот, будем тут слушать Бога.
— Как, слушать Бога?
— Мы сейчас перед лицом Сущего. Он во всем — в прибое морском, в шелесте сосен и в ваших глазах. Положите мне руку на голову. Вот так. Положите мою голову к себе на колени и спойте колыбельную песенку. Я устал.
Дачница рассмеялась, но исполнила желание Маргаритова.
— Чему вы сейчас смеялись?
— Так, — ответила дачница.
— Вы не видите звезд?
— Нет. Теперь же день,
— А я их вижу. Моя звезда и твоя — мерцают рядом. Как хорошо чувствовать себя частичкой космоса… Что значим мы, две пылинки, среди биллионов…
Неожиданно дачница сбросила голову Маргаритова на песок, повалилась около и залилась таким ужасным раскатистым смехом, которого Маргаритов никогда не слыхивал. Она смеялась длинной заливчатой фразой «ха-ха-ха-ха-хха-а!», потом ей перехватывало горло, она делала коротенькое — «гга-а-а!», и опять вздохнув, низвергалась в глубокую пучину: «ах-ха-ха-ха-ха-а-а!»
Маргаритов, потрясенный, стоял над нею и спрашивал:
— Что такое? Что случилось?
— Гга-а-а! Ахха-ха-ха-а!
— А ну вас, — сердито сказал Маргаритов. — Если вам так весело — веселитесь в одиночестве.
— Ах-ха-ха-ха-а!
Отойдя от нее, Маргаритов подумал с досадой:
— Ничего не понимает. Наверное, дура.
В тот же день Маргаритов свел знакомство с другой дачницей — прехорошенькой докторшей.
— Часто бываете у моря? — хитро спросил он.
— Не особенно.
— Хотите я покажу вам один чудесный уголок. О нем никто почти не знает.
Пойдемте. Когда писатель и дачница пришли на то место, где еще оставалось углубление в песке от тела хохотавшей давеча собеседницы Маргаритова, — Маргаритов уселся у ног своей новой знакомой и мечтательно сказал:
— Тут так хорошо… Здесь можно слушать Бога.
— Почему?
Он устало покачал головой.
— Боже мой! Но ведь мы теперь лицом к лицу с Неведомым… Неведомый притаился всюду — его шум слышится в прибое соленой волны, в шелесте могучих сосен, и Он глядит на меня из ваших глаз. Положите мне руку на голову. Я устал.
— Может быть, вы хотите положить свою голову ко мне на колени? — благодушно спросила дачница.
Маргаритов опасливо взглянул на нее, подивился немного и нерешительно положил голову ей на колени.
— Баю-баюшки, — сказала дачница. — Не спеть ли вам колыбельную песенку?
Маргаритов поднял голову.
— Откуда вы… знаете?
— Что?
— Ничего, ничего…
— Нет, что я знаю?
— Вот то, что я… хотел, чтобы вы мне спели колыбельную песенку?
— Догадалась, — рассмеялась дачница. — Сердце сердцу весть подает. Вы звездочек не видите? Вон две наших звездочки мерцают. Дальше как? Космос, что ли? Постойте, куда же вы? Вы еще не сказали на счет двух жалких пылинок среди миллиарда. Это очень хороший трюк; женщина, узнав, что вы с ней две такие пустяковые пылинки среди миллиардов — подумает: «Эх, изменю-ка я мужу. Все равно крошечная измена растворится среди огромного космоса!» Ах, Маргаритов, Маргаритов! Ведь, вы писатель. Ну, как же вам не стыдно, а?
— Послушайте… Скажите мне правду, — убитым тоном спросил Маргаритов. — Это Пампухов… разболтал?
— Ну, конечно же! Он уже два дня ходит всюду и проповедует: «Женщины, скоро приедет Маргаритов — остерегайтесь его. Он будет стоять с вами перед лицом природы, потом положит вашу руку к себе на голову, потом эту голову положит к вам на колени, потом будет жалоба на усталость, просьба колыбельной песни и разговор о звездах, о космосе. Потом…»
— Довольно! — с горечью сказал Маргаритов. — Прощайте. Вы злы и жестоки.
— До свиданья. Всего хорошего. Кланяйтесь Пампухову.
Усталый, разбитый возвращался бедный Маргаритов к себе на дачу. Он брел, натыкаясь на стволы сосен и спотыкаясь о корни.
Он был печален, рассеян и зол.
Но как он ни был рассеян — звук двух голосов, доносившихся со стороны лужайки, где лежало старое сваленное бурей дерево — остановил его.
Разговаривали мужчина и женщина. Маргаритов прислушался и проворчал:
— Ну, конечно, этот проклятый Пампухов разговаривает! Чтоб ему язык проглотить.
Вопреки этому желанию, Пампухов действовал языком легко и свободно.
— Я в этом отношении рассуждаю, как дикарь! Захотелось мне вас поцеловать — я хватаю вас и целую. Это мое право. Захотелось вам ударить меня за это хлыстом или выстрелить из пистолета — бейте, стреляйте. Это уже ваше право.
— Ну, хорошо, — сказал женский голос. — а если я ни бить, ни стрелять в вас не буду, а просто скажу, что вы мне противны. Тогда что?
— Не говорите этого слова, — яростно вскричал Пампухов. — Я себе лучше разобью голову!
И он, действительно, хватился головой о поваленный ствол дерева.
— Ишь, проклятый, — завистливо подумал Маргаритов. — Без приемов работает. Как Бог на душу положить!
— Сумасшедший! — вскричала женщина. — Вы себе голову разобьете!
— И разобью, — вдохновенно-упрямо сказал Пампухов.
— Смотрите, какое красное пятно на виске…
— И пусть. Любите меня?
— Не знаю, — нерешительно сказала женщина. — Я, кажется, вообще, не могу любить.
— Пусть я подохну, — простонал Пампухов.
Он задыхался от гнева и муки. Поглядел на женщину воспаленными глазами, схватил себя за воротник и бешено дернул. Воротник затрещал, галстук лопнул и безжизненно свис на сторону.
— Что вы делаете, дикарь? Ведь вам придется возвращаться домой.
— Пусть! — прохрипел бедный Пампухов. — Пусть! Любишь меня? Скажи…
— Не знаю… Зачем вы меня на ты называете?
— О, ччерт! Придешь сегодня ночью к мостику?
— Не делайте моей руке больно. Не знаю, может быть…
— Нет, скажи наверное…
— Наверное, сказать никогда нельзя… а вдруг умру.
— О, Божже! — заревел Пампухов. — Она меня не любит! Она мной играет! Пропадай все.
Он схватил свою трость, в ярости переломил ее пополам, и отбросив далеко от себя обе половинки, убежал в лес.
— Пампухов, — крикнула дачница. — Вернитесь! Пампу-у-ухов! Где вы, сумасшедший! Сережа-а! Ну, вернись, ну, я тебя люблю. Я пошутила!
Очевидно, сумасбродный Пампухов был далеко, потому что не отозвался на этот ласковый призыв. Дачница села на поваленное дерево, и подперев подбородок рукой, стала смотреть затуманенным слезой взором в ту сторону, куда умчался неистовый Пампухов.
Подождав немного, Маргаритов засвистел песню и смело направился к дачнице, обойдя ее с другой стороны.
— Ай, кто тут?!
— Это я, — сказал, раскланиваясь, Маргаритов. — Позвольте представиться, — Маргаритов. Бродя по лесу, услышал женский крик, и думая, что кому-нибудь нужна помощь — поспешил сюда.
— А вы слышали, — смущенно спросила дачница, — что я кричала?
— Странно, но мне показалось, что женский голос кричит знакомое имя — Пампухов!
— А вы его… знаете?
— Сережу Пампухова? Как самого себя. Страшный ловелас.
— Ну, что вы!
— А ей Богу. Наверное, уже успел признаться вам в любви…
— Почему вы думаете?
— Таков его характер. У него есть и система своя. Да вот, например: говорил он вам, что он дикарь и делает, что хочет, и что женщина может поступать тоже, как хочет: или ответить на поцелуй, или ударить ножом.
— Нет, не ножом, а хлыстом или револьвером.
— Ну, все равно.
Он оглядел дачницу и спросил небрежно-деловым тоном:
— Голову разбивал?
— Что-о?
— Голову. У него такая система: после дикаря биться головой обо что-нибудь.
Дачница вскочила.
— Послушайте! Неужели, он притворялся? А я-то, глупая…