— Прости меня, Вавуля! — начал Алик, запинаясь. — Я совсем не хотел… Ты не думай, пожалуйста…
— Не надо. Не оправдывайся, — твердо остановил тот гостя. — Неужели ты решил, что я буду пачкаться из-за каких-то нескольких тысяч. Нет, мой милый, мне действительно срочно понадобились деньги, но я обошелся. Ладно, поставим крест и забудем все… Сегодня у меня удачный день, и я отпускаю грехи всему человечеству.
После этого случая Алик проникся к Володе еще большим доверием и в течение трех месяцев всячески старался загладить, если не искупить полностью, свою вину. Мамина коробка с облигациями трехпроцентного займа таяла день ото дня.
Когда дома открылась пропажа облигаций, с мамой сделался тяжелый сердечный приступ.
Алик, по обыкновению, упорно отпирался…
Был сухой солнечный осенний день, когда хоронили мать. На кладбище под подошвами скрипел песок, шуршали желтые листья. В холодноватом воздухе, похожем на прозрачную, пронзительной сини воду горного озера, весело и беззаботно чирикали птицы.
Стиснув зубы, Алик молча стоял над равнодушным, совсем чужим холмиком глины. Дыхание перехватывали спазмы, глаза заволакивало режущим красноватым туманом. Все давно разошлись, а он все стоял, скорбно склонив голову.
— Это такое горе, такое горе, — бормотал Алик, глотая слезы. — Бедная мама… Как я одинок… Как одинок…
Безвольными ногами он уходил с кладбища. Ему было жалко мать и страшно. Он чувствовал себя собакой, которую бросил хозяин.
Одновременно он испытывал и странное облегчение. Теперь ему некого бояться. Впрочем, «бояться» не то слово. Теперь никто не будет его стеснять и никто не будет мешать ему быть самим собой и мешать делать то, что захочется. Он одинок, но и свободен. Перед глазами вновь и вновь возникала мать — с искательной улыбкой на ярко накрашенном измученном лице, с усталыми, встревоженными глазами. Было что-то жалкое и унизительное в ее стремлении поспеть за крикливой модой, в попытках совместить в своей одежде век нынешний и век минувший — в этих тонких кружевах и рюшах, широкополых шляпках, пышных бантах, дорогих браслетах и брошах.
Милая мама с ее любовью, заботами и опекой вечно мешала ему. Алик быстро приходил в себя. Дышалось легче. Он снова каждой порой ощущал звенящую золотом красок осень.
Мать хотела прочно привязать его к устроенной по-своему жизни. Хотела, чтобы он был таким, как сама она. Он брыкался и вырывался из крепких пут, но не смел сделать решающего рывка. Мамины принципы и взгляды висели на нем, как тяжелые вериги на шее праведника.
И вот он наконец свободен.
В детстве Алик сломал левую руку. Она как-то там неправильно срослась, и еще до поступления в институт его освободили от службы в армии «по чистой».
Впрочем, это была еще не совсем полная свобода. Зато когда после смерти мамы отец с треском выгнал его из дому, наступила полная свобода.
Алик умел держать марку — ушел с высоко поднятой головой. Впрочем, самостоятельная жизнь оказалась не такой сладкой, как он ожидал. Для него начались трудные дни.
Раньше он считал свое бездействие уступкой обстоятельствам, чем-то вроде выигрыша времени. Он рассчитывал определиться в жизни наилучшим образом, хотя и не мог с определенностью сказать, как именно. Сейчас было не до высоких материй — требовалось зарабатывать просто на хлеб насущный.
Ему не везло. Все попадалась какая-то унизительная работа, хотя на слух, казалось бы, должности и были довольно звучными: «администратор», «ответственный дежурный», «помощник», «ассистент»…
На лодочной станции требовалось отвязывать и привязывать лодки, пересчитывать весла, даже самому конопатить дырки. В шахматном клубе — расставлять фигуры и заводить часы. В артели металлоизделий работа вообще оказалась какой-то крайне нечистоплотной: приходилось каждый день крутить ручку скрипящего барабана, на котором загибались дверные крючки…
— Муть какая-то, — огорчался Алик. — Ни грамма творчества. На такой бездарной службе вмиг потеряешь остатки самоуважения.
Изредка он случайно встречался со школьными товарищами. Все они были довольны и веселы. Одни уже вернулись, отслужив в армии, и работали, другие учились. Некоторые успели жениться и даже стать папами и мамами. Они были вполне довольны собой и своей жизнью, увлеченно рассказывали о своих успехах — семинарах, практике, разрядах, курсовых проектах, детях, спортивных состязаниях, художественной самодеятельности, туристских походах…
После этих встреч Алику почему-то становилось не по себе. Он не мог бы объяснить почему. Может быть, потому, что сам втайне тосковал по такой жизни. И в то же время понимал, что она не до конца устроила бы его. Тянуло к чему-то другому.
— А как ты? — допытывался бывший одноклассник. — Работаешь? Учишься?
— У меня мама умерла… — вздыхал Алик, глядя на собеседника печальными глазами.
Ему сочувствовали, советовали взять себя в руки, держаться. «Семинар, курсовая, производственный план, соревнование, прогрессивка — какой жалкий жребий! — наедине злился Алик. — А я и так сумею устроиться не хуже вас. Вот увидите».
Однако безденежье наступало буквально на пятки, тянулось растопыренной пятерней к горлу. Изредка его выручала Мэри. Но много ли она могла, если сама впервые в жизни пошла работать — в регистратуру поликлиники. Володя? Ах, Володя! Рыцарь красивой жизни. Где он теперь? В каком далеком цветнике срезает цветы удовольствий?
Голод не знал жалости и снисхождения.
«Вот если бы выиграть по лотерее или на скачках, — размышлял Алик. — Сорвать бы крупный куш и одним махом поправить свои дела».
Дубленка была продана, чтобы обеспечить хоть какой-то минимум оборотных средств. Ему фантастически не везло — кто-то выигрывал «Волги» и холодильники, а на его билеты не выпало даже рубля. Алик вспомнил отца и стал искать систему — долго считал, высчитывал, исчеркал цифрами целую тетрадь.
Но и система себя не оправдала — в дебите снова оказался круглый и голый, как медуза, ноль…
Алика взяла такая досада, и так ему захотелось отыграться, что после долгих колебаний в одну отчаянную минуту он решил сам помочь удаче…
Он зашел в сберкассу перед закрытием, когда усталые работники уже поглядывали на часы.
— Будьте настолько любезны, — засветился Алик счастливой улыбкой в окошечке контролера. — Кажется, мой билет выиграл пылесос. Проверьте, пожалуйста. И если это так — поздравьте меня: дома у нас уже есть два пылесоса.
Работники сберкассы заулыбались.
Алик продолжал оживленно говорить, пока контролер сверяла номер билета с таблицей, а сам нетерпеливо переступал с ноги на ногу и едва удерживал на месте готовое вырваться из груди и улететь сердце. Но когда ему показалось, что рука контролера потянулась к лежащей перед ней лупе, он припустил прочь. Женщина, любезно улыбаясь, подняла взгляд к окошечку, но вместо веселого молодого лица в нем торчала пожилая усатая физиономия. Она-то, собственно, и заменила в последний момент начинающего мошенника.
Пришлось заложить в ломбард золотой перстень с монограммой. Алик был ужасно расстроен. «Надо что-то придумать, — убеждал он себя. — И как можно скорее». Мир казался ему уже не таким добрым и безоблачным, как прежде, а беспросветно мрачным, жестоким.
Да тут еще эта случайная встреча с отцом на ипподроме. «Какой все-таки он бессердечный человек, — горестно моргая, думал Алик, вернувшись домой из ресторана, где он провел вечер в обществе той самой милой парочки, которой представился графом. — Был при выигрыше и не протянул руку помощи единственному сыну».
«Схожу-ка к Юраше, — решил Алик. — Может, у него перехвачу в долг?»
Он поморщился. Идти на поклон к Юраше ему никак не хотелось. В душе он считал Юрашу человеком второго сорта, не комильфо. Но делать нечего. Кривясь и передергиваясь, Алик направил свои стопы в ателье.
Юраша был закройщиком и дамским угодником. У него были свои понятия о жизни и чести, и, по его понятиям, он, человек при деле и деньгах, был на голову выше таких слишком много воображающих о себе типов, как Алик.
— Привет, привет! — снисходительно встретил он Алика, всем своим видом выказывая озабоченность занятого человека. — Слушаю тебя. Костюмчик задумал? Я сейчас занят, старик. По завязку. Вот так. — Юраша провел ребром ладони по горлу. На нем были брюки в обтяжку и серый пуловер. На груди болтались концы переброшенного через шею желтого сантиметра.
— Нет, не костюмчик, — покачал головой Алик, с горькой обидой сознавая, через какое унижение ему предстоит пройти ради какого-то жалкого гонорара. — Есть разговор. Деловой разговор, — уточнил он.
— «Деловой разговор»… — чуть смягчаясь, сказал Юраша. — Тогда подожди. Я скоро закончу. Посиди здесь, полистай журналы.
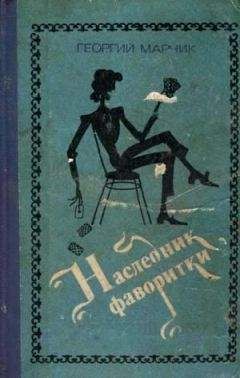



![Александр Дюма - Воспоминания фаворитки [Исповедь фаворитки]](https://cdn.my-library.info/books/7574/7574.jpg)