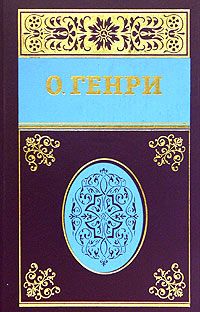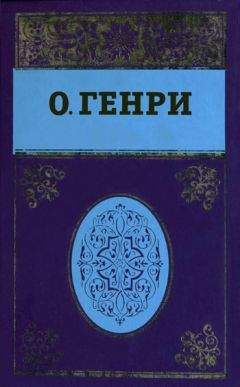— Стоит ли обращать внимание на эти сплетни, мисс Лиззи, — сказал слуга, мягко выдавливая слова из щели над подбородком. — Не может Малыш Меллали бросить такую девушку, как вы. Еще сельтерской?
— Да, уже два года, — повторила Лиззи, понемногу смягчаясь под магическим действием алкоголя. — Я всегда играла по вечерам на улице, потому что дома делать было нечего. Сначала я только сидела на крыльце и все смотрела на огни и на прохожих. А потом как-то вечером прошел мимо Малыш и взглянул на меня, и я сразу в него втюрилась. Когда он в первый раз напоил меня, я потом дома проплакала всю ночь и получила трепку за то, что не давала другим спать. А теперь… Скажите, Томми, вы когда-нибудь видели эту Энни Карлсон? Только и есть красоты, что перекись. Да, я ищу его. Вы скажите Малышу, если он зайдет. Что сделаю? Сердце вырежу у него из груди. Так и знайте. Еще виски, Томми.
Нетвердой походкой, но настороженно блестя глазами, Лиззи шла по улице. На пороге кирпичного доходного дома сидела кудрявая девочка и задумчиво рассматривала спутанный моток веревки. Лиззи плюхнулась на порог рядом с ребенком. Кривая, неверная улыбка бродила по ее разгоряченному лицу, но глаза вдруг стали ясными и бесхитростными.
— Давай я тебе покажу, как играть в веревочку, — сказала она, пряча пыльные туфли под зеленой шелковой юбкой.
Пока они сидели там, в Клубе Полуночников зажглись огни для бала. Такой бал устраивался раз в два месяца, и члены клуба очень дорожили этим днем и старались, чтобы все было обставлено парадно и с шиком.
В девять часов в зале появился председатель, Малыш Меллали, под руку с дамой. Волосы у нее были золотые, как у Лорелеи. Она говорила с ирландским акцентом, но никто не принял бы ее «да» за отказ. Она путалась в своей длинной юбке, краснела и улыбалась — улыбалась, глядя в глаза Малышу Меллали.
И когда они остановились посреди комнаты, на навощенном полу произошло то, для предотвращения чего много ламп горит по ночам во многих кабинетах и библиотеках.
Из круга зрителей выбежала Судьба в зеленой шелковой юбке и под псевдонимом «Лиззи». Глаза у нее были жесткие и чернее агата. Она не кричала, не колебалась. Совсем не по-женски она бросила одно-единственное ругательство — любимое ругательство Малыша — таким же, как у него, грубым голосом. А потом, к великому ужасу и смятению Клуба Полуночников, она исполнила хвастливое обещание, которое дала Томми, исполнила, насколько хватило длины ее ножа и силы ее руки.
Затем в ней проснулся инстинкт самосохранения… или инстинкт самоуничтожения, который общество привило к дереву природы?
Лиззи выбежала на улицу и помчалась по ней стрелою, как в сумерки вальдшнеп летит через молодой лесок.
И тут началось нечто — величайший позор большого города, его застарелая язва, его скверна и унижение, его темное пятно, его навечное бесчестье и преступление, поощряемое, ненаказуемое, унаследованное от времен самого глубокого варварства, — началась травля человека. Только в больших городах и сохранился еще этот страшный обычай, в больших городах, где в травле участвует то, что зовется утонченностью, гражданственностью и высокой культурой.
Они гнались за ней — вопящая толпа отцов, матерей, любовников и девушек, — они выли, визжали, свистели, звали на подмогу, требовали крови. Хорошо зная дорогу, с одной мыслью — скорее бы конец — Лиззи мчалась по знакомым улицам, пока не почувствовала под ногами подгнившие доски старой пристани. Еще несколько шагов — и добрая мать Восточная река приняла Лиззи в свои объятия, тинистые, но надежные, и в пять минут разрешила задачу, над которой бьются в тысячах пасторатов и колледжей, где горят по ночам огни.
Забавные иногда снятся сны. Поэты называют их видениями, но видение — это только сон белыми стихами. Мне приснился конец этой истории.
Мне приснилось, что я на том свете. Не знаю, как я туда попал. Вероятно, ехал поездом надземной железной дороги по Девятой авеню, или принял патентованное лекарство, или пытался потянуть за нос Джима Джеффриса,[124] или предпринял еще какой-нибудь неосмотрительный шаг. Как бы то ни было, я очутился там, среди большой толпы, у входа в зал суда, где шло заседание. И время от времени красивый, величественный ангел — судебный пристав — появлялся в дверях и вызывал: «Следующее дело!»
Пока я перебирал в уме свои земные прегрешения и раздумывал, не попытаться ли мне доказать свое алиби, сославшись на то, что я жил в штате Нью-Джерси, — судебный пристав в ангельском чине приоткрыл дверь и возгласил:
— Дело № 99852743.
Из толпы бодро вышел сыщик в штатском — их там была целая куча, одетых в черное, совсем как пасторы, и они расталкивали нас точь-в-точь так же, как, бывало, полисмены на грешной земле, — и за руку он тащил… кого бы вы думали? Лиззи!
Судебный пристав увел ее в зал и затворил дверь. Я подошел к крылатому агенту и спросил его, что это за дело.
— Очень прискорбный случай, — ответил он, соединив вместе кончики пальцев с наманикюренными ногтями. — Совершенно неисправимая девица. Я специальный агент по земным делам, преподобный Джонс. Девушка убила своего жениха и лишила себя жизни. Оправданий у нее никаких. В докладе, который я представил суду, факты изложены во всех подробностях, и все они подкреплены надежными свидетелями. Возмездие за грех — смерть. Хвала Создателю!
Из дверей зала вышел судебный пристав.
— Бедная девушка, — сказал специальный агент по земным делам, преподобный Джонс, смахивая слезу. — Это один из самых прискорбных случаев, какие мне попадались. Разумеется, она…
— …Оправдана, — сказал судебный пристав. — Ну-ка, подойди сюда, Джонси. Смотри, как бы не перевели тебя в миссионерскую команду да не послали в Полинезию, что ты тогда запоешь? Чтобы не было больше этих неправых арестов, не то берегись. По этому делу тебе следует арестовать рыжего, небритого, неряшливого мужчину, который сидит в одних носках у окна и читает газету, пока его дети играют на мостовой. Ну, живей, поворачивайся!
Глупый сон, правда?
У каждого свой светофор{45}
(Перевод под ред. М. Лорие)
Где-то в глубинах большого города, там, где выпавшая в осадок муть постоянно вечно сбивается, встретились молодой Мюррей с Капитаном, и они подружились. Оба оказались на такой прочной мели, какую и представить себе трудно, оба скатились, по крайней мере, со средних высот респектабельности и социальной значимости, и оба они были типичным продуктом чудовищной и весьма специфичной в социальном отношении системы.
Капитан уже не был капитаном. Один из внезапных моральных катаклизмов, которые время от времени сотрясают город, сбросил его с высокой и престижной должности в департаменте полиции, сорвал кокарду с фуражки и пуговицы с мундира, перекинул в руки его адвокатов солидные куски имущества, которые его природная бережливость позволила ему нажить. Настигший его потоп выбросил на мель и промочил до нитки. Через месяц после того, как его раздели, лишили полицейской формы, владелец салуна, дотянувшись до него от своего прилавка, на котором ставят бесплатный ланч, и схватив его за шкирку, как хватает полосатая кошка своего котенка из корзинки, выбросил его вон, — прямо на асфальт.
Тоже довольно низко, согласитесь. После этого Капитан купил себе костюм, и, застегнув на все кнопки краги, как у конгрессмена, принялся писать жалобы в газеты. Вскоре он подрался со служащим в муниципальной ночлежке из-за того, что тот хотел вымыть его в ванной. Когда Мюррей увидел его впервые, он держал за руку какую-то итальянку, торговавшую яблоками и чесноком на Эссекс-стрит, и цитировал ей баллады из песенника.
Падение Мюррея было если и менее зрелищным, зато поистине люциферианским. Все маленькие удовольствия, все соблазны в Готхэме, как называют шутники Нью-Йорк, были ему доступны. Гиды орали в мегафон, заставляя туристов посмотреть на великолепный дом его богача-дяди, расположенный на большой и респектабельной авеню. Но потом вдруг возник какой-то скандальный шум, и принц был выпровожен из дома дворецким, что на этой авеню расценивалось как пинок под зад. Слабосильный принц Гэл, лишившись шпаги и наследства, не спеша побрел навстречу своему мрачному Фальстафу, чтобы теперь вместе с ним бесцельно бродить по горбатым нью-йоркским улочкам.
Однажды вечером они сидели на скамье в небольшом сквере в нижней части города. Грузный Капитан, полноту которого голод только увеличивал, — что могло лишь вызвать иронию, а не жалость к нему тех, кто читал его петиции о материальной помощи, — всей своей огромной массой откинулся на спинку скамейки. Его красная физиономия с всплесками киновари, его отращенные за неделю усы, мятая белая соломенная шляпа на голове были похожи на ту картину в витрине на темной Третьей авеню, которая требовала игры воображения, чтобы определить, что это такое, — что-то новенькое в области модных женских шляпок или слоеный торт с клубничной начинкой. Туго затянутый ремень — единственная реликвия его былой щеголеватости — образовывал глубокую впадину в его окружности. На его ботинках не было застежек. Глухим басом он проклинал свою невезучую звезду.