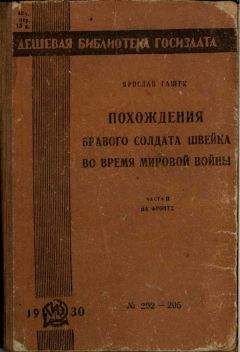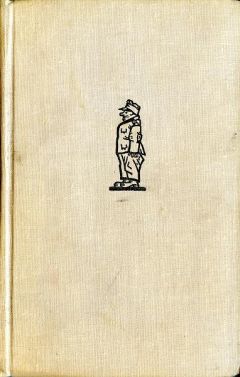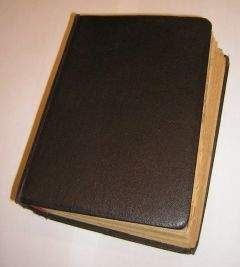Затем он вынул из стола две свечки, на которых были следы сургуча, и когда бабка приковыляла с распятием, он поставил распятие между двумя свечками, зажег их и торжественно сказал:
— Сядьте, бабушка.
Остолбенелая бабка опустилась на диван и испуганно переводила взгляд с вахмистра на распятие и с распятия на вахмистра. Ее обуял страх, и было видно, как ее сложенные на коленях руки дрожат вместе с коленками.
Вахмистр прошелся раза два около нее, потом остановился и торжественно изрек:
— Вчера вечером вы были свидетельницей великого события. Возможно, что ваш ограниченный разум этого не постигает. Солдат, которого вы видели, бабушка, — разведчик, шпион.
— Иисус, Мария! — воскликнула бабка. — Мать пресвятая богородица! Царица небесная!
— Тихо! Так вот, для того чтобы выведать от него кое-какие вещи, пришлось вести некоторые, быть может, странные разговоры, которые вы вчера слышали. Слышали, что мы вчера говорили?
— Слышала, — дрожащим голосом пролепетала бабка.
— Эти речи, бабушка, вели только к тому, чтобы он нам стал доверять и признался. И нам это удалось, Вытянули мы из него все. Сцапали голубчика!
Вахмистр прервал свою речь, чтобы поправить свечи, и продолжал торжественным тоном, строго глядя на бабку.
— Вы, бабушка, присутствовали при этом и таким образом посвящены в эту тайну. Эта тайна — тайна государственная. В этом вы и заикнуться никому не смеете. Даже на смертном одре не должны об этом говорить, иначе вы будете лишены права быть погребенной на кладбище.
— Иисус, Мария, Иосиф! — заголосила бабка, — занесла меня нелегкая в вашу комнату!
— Не реветь! Встаньте, подойдите к святому распятию, сложите два пальца и подымите руку. Будете сейчас мне присягать. Повторяйте за мной…
Бабка заковыляла к столу, причитая:
— Мать пресвятая богородица, царица небесная, зачем я в комнату-то вошла!
С распятия глядело на нее изможденное лицо Христа, свечки коптили, и бабке вся обстановка представлялась жуткой и неземной. Она совсем потерялась, колени стукались у ней одно о другое, руки тряслись. Она подняла руку со сложенными пальцами, и вахмистр торжественно, с выражением, говорил слова присяги, которые бабка повторяла за ним:
— Клянусь богу всемогущему и вам, пан вахмистр, что ничего о том, что здесь видела и слышала, я никому до смерти своей не скажу ни слова ни под угрозой, ни под пыткой. Да поможет мне в этом господь бог!
— Теперь поцелуйте крест, — приказал вахмистр, после того как бабка, громко всхлипывая и крестясь, повторила слова присяги. — Так, а теперь отнесите распятие, откуда его взяли, и скажите там, что мне оно было нужно для допроса.
Ошеломленная старуха на цыпочках вышла из комнаты и пошла по дороге, поминутно оглядываясь, как бы желая убедиться, что это не было сном и что она действительно только что пережила одну из самых страшных минут в своей жизни.
Вахмистр переписывал, между тем, свой рапорт, который за ночь украсился разлизанными кляксами.
Он все переделал заново и переписал. Но потом вспомнил, что позабыл допросить Швейка еще об одной вещи. Он велел привести Швейка и спросил его:
— Умеете ли вы фотографировать?
— Умею.
— А почему вы не носите с собой аппарата?
— Потому что его у меня нет, — чистосердечно признался Швейк.
— А если бы аппарат у вас был, вы бы делали снимки?
— Если бы да кабы, да во рту росли бобы, — простодушно ответил Швейк, встречая спокойным взглядом испытующий взгляд вахмистра.
У вахмистра опять разболелась голова, и он не мог найти другого вопроса, как:
— Трудно ли фотографировать вокзалы?
— Легче легкого, — ответил Швейк. — Во-первых, вокзал не двигается, а стоит все время на одном месте, а во-вторых, ему не нужно говорить: «Сделайте приятную улыбку».
После этих показаний вахмистр мог дополнить свой рапорт: «В дополнение к донесению № 2172 сообщаю…»
В этом дополнении вахмистр дал волю своему вдохновению:
«При перекрестном допросе арестованный, между прочим, показал, что умеет фотографировать и охотнее всего делает снимки с вокзалов. Хотя при обыске фотографического аппарата у него обнаружено не было, но есть подозрение, что он у него где-нибудь спрятан, и поэтому он его с собой не носит, чтобы не возбуждать подозрений, что подтверждает и его признание, что он делал бы снимки, если бы имел при себе аппарат…»
Вахмистр с похмелья понес далее полную околесицу:
«Из показаний арестованного с несомненной очевидностью вытекает, что только неимение при себе аппарата помешало ему сфотографировать железнодорожные строения и места, имеющие стратегическое значение. Не подлежит сомнению, что свои намерения он бы привел в исполнение, если бы спрятанный им вышеупомянутый фотографический аппарат был у него под рукой. Точно так же, только благодаря тому обстоятельству, что аппарата при нем не было, никаких снимков обнаружено у него не было».
— Хватит, — сказал вахмистр и подписался.
Оставшись очень довольным своим произведением, он с гордостью прочел его своему помощнику.
— Удачный доклад, — сказал он. — Видите, вот как нужно составлять донесения. Здесь все должно быть. Следствие, милейший, не такая уж простая штука, а главное дело в том, как подать результаты допроса, чтобы в высшей инстанции только рот разинули. Приведите-ка его ко мне. Пора с этим делом покончить.
— Итак унтер-офицер отведет вас в Окружное жандармское управление в Писек, — сказал он с достоинством Швейку. — По предписанию полагается отправить вас в ручных кандалах, но ввиду того что, по моему мнению, вы человек порядочный, кандалов мы на вас не наденем. Я уверен, что и по дороге вы не сделаете попытки к побегу. — Вахмистр, видимо тронутый видом швейковской добродушной физиономии, прибавил: — И не поминайте меня лихом. Отведите его, унтер, вот вам мое донесение.
— Счастливо оставаться, — мягко сказал Швейк. — Спасибо вам, пан вахмистр, за все, что вы для меня сделали. При случае черкну вам письмецо. Если попаду в ваши края, обязательно зайду к вам в гости.
Швейк с унтером вышли на дорогу, и каждый встречный, видя их увлеченными дружескою беседой, счел бы их за старых знакомых, идущих вместе в город, скажем, — в костел.
— Никогда не думал, — говорил Швейк, — что дорога в Будейовицы будет связана со столькими затруднениями. Это напоминает мне случай с мясником Хаурой из Кобылиц. Попал он раз к памятнику Палацкому на Морани[21] и ходил вокруг него до самого утра, потому что ему казалось, что он идет вдоль стены? и никак не может ее пройти. К утру он выбился из сил, пришел в отчаяние и закричал «караул!», а когда прибежали полицейские, он их спросил, как ему пройти домой в Кобылицы, потому что, говорит, никак стены пройти не может, идет, говорит, вдоль нее пять часов, а ей конца-краю не видать. Полицейские его забрали, а он им там в участке все раскидал и расколотил.
Унтер не сказал ни слова и подумал: «К чему клонит? Опять начинает заправлять арапа насчет Будейовиц».
Они проходили мимо пруда, и Швейк поинтересовался, много ли в их районе рыболовов, которые ловят без разрешения рыбу.
— Только такие и водятся, — ответил унтер. — Прежнего вахмистра утопить хотели. Сторож у пруда стреляет им в задницы нарезанной щетиной, но ничего не помогает. Они носят в штанах кусок жести.
И унтер слегка коснулся темы о прогрессе, о том, до чего люди дошли, и как один другого обставляет, и затем развил новую теорию о том, что война — великое благо для всего человечества, потому что заодно с порядочными людьми перестреляют многих негодяев и мошенников.
— И так на свете слишком много народу, — произнес он глубокомысленно. — Всем стало тесно, людей развелось до чорта!
Они подходили к постоялому двору.
— Сегодня чертовски метет, — сказал унтер. — Я думаю, не мешало бы пропустить по рюмочке. Не говорите там никому, что я вас веду в Писек. Это государственная тайна.
В голове унтера пронеслась инструкция из центра о подозрительных лицах и об обязанностях каждого жандармского отделения: «Изолировать этих лиц от местного населения и при отправке их по дальнейшим инстанциям стараться всеми мерами не давать повода к распространению излишних толков и пересудов среди населения».
— Не вздумайте проговориться, что вы за птица, — сказал он. — До этого никому дела нет. Не давайте повода к распространению паники. Паника в военное время ужасная вещь. Кто-нибудь сболтнет — и пойдет по всей округе! Понимаете?
— Я панику распространять не буду, — сказал Швейк и держал себя соответственно с этим.
Когда трактирщик с ним разговорился, Швейк проронил:
— Вот, брат говорит, что за час дойдем до Писека.
— Так значит брат ваш в отпуску? — спросил любопытный трактирщик у унтера.