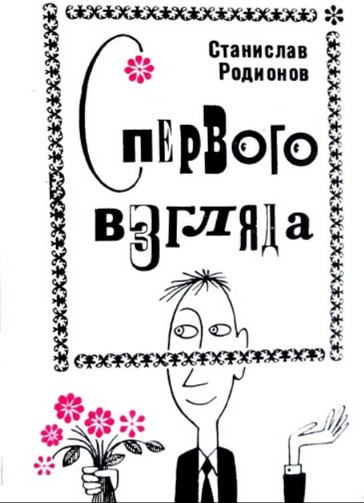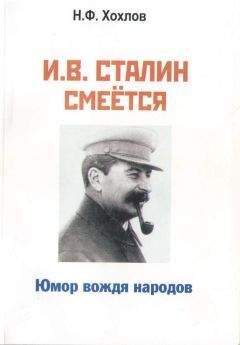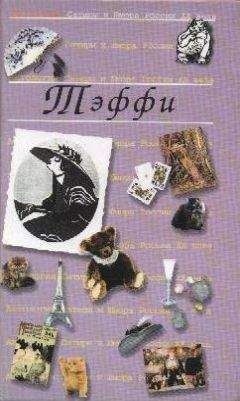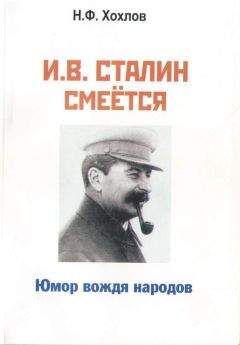тоже защитники пьянства водились. А если кто скажет, что пьянство ум веселит, то и верно, веселит — как кнут веселит худую кобылу. Это так понимать: кто пьяниц защищает, того надо кнутом, как худую кобылу.
— Скажите, о любви и браке есть афоризмы? — женка-то по своей дамской части интересуется.
— А поморы обо всем говорили: и как рыбу солить, и как женку любить. Пиши про любовь. «А надумаете пожениться али чего тако подобное, то на рожи друг дружки пялиться неча — на человека гляди». Значит, так: вышел из загса — спроси, как ее звать. Теперь пиши про семейную жизнь. «А ежели женка нудит, как гнус лесной, то в брань с ней не вступай — лутче испей студеного квасу». Заметь, дядя, — не пива. Потому что в семейной жизни надо успокаиваться, а не возбуждаться.
— Слышал, Спиридон? — женка говорит туристу, который оказался Спиридоном.
Пиши дале. «Упаси бог от свары домашней: от нее мужик теряет внешность и посему на камбалу походит».
— Это что — намеки? — турист-то, Спиридон-то, смотрит на меня подозрительно, как на шпиона. — Я, молодой человек, имею должность.
— Какие намеки, дядя... Имеешь, и держи ее при себе на здоровье. Никто ж не отбирает. Лучше послушай, что поморы сказали дальше про семейную жизнь. «А возвратясь с походу ране обычного...»
— Какого походу?
— По-нашему, вернувшись из командировки. «...И войдя в избу, узришь женку в виде непотребном. . .»
— Что за такой вид?
— Ну, непричесана. «.. .И соседа подлого необутого...»
— Почему необутого?
— Ну, вроде как бы без галстука. «.. .То по-бычьи не ярись...»
— Как это — по-бычьи?
— По-нашему, не психуй зря. «…Об того соседа ухват али каку тяжелую колоду не бей...»
— Каку, то есть какую колоду?
— В смысле не ломай гарнитуры. «... А возьми тую женку за белы руки...»
— Почему у нее руки белые?
— Ну, не загорела — какое солнце-то на Севере. «... Да и выпри из избы вместях с соседом...
— Она ж там прописана?
— Советуют разъезжаться. «…Пусть он ее до себя ведет». Конечно, дома у него тоже своя жена есть, которая их попрет обратно.
— Парень, а не придумал ли ты весь этот поморский язык, а? — турист засомневался.
Где мне, дядя... Взаболь у нас так. А я больше по лесорубной части — деревья валить да сучки рубить. Враку сам не люблю.
— Ну, если ты все и наврал, то наврал интересно. Обязательно поедем в Архангельск. Поезда к вам ходят?
— Опять ты, дядя, ничего не понял. Каки поезда? О трамваях да поездах мы слыхом не слыхивали. Ежели к соседу надо, то он сам к тебе придет. А когда в Сочи загорать, тут уж выбирай льдину и плыви Северным морским путем до самых Сочей.
— Ну, а самолеты летают?
— Самолеты — это какие? Аэропланы, что ли? На самолетах, дядя, архангельским летать нельзя — в воздухе вываливаются. Чумаданы теряют.
— Как же к вам ехать?
— Просто, дядя. Выбирай в мае льдину покрепче, садись на чумадан да и плыви по Двине. Заблудишься, так людей спроси: где, мол, тут Архангельский город — всему морю ворот? Всяк покажет. А я тебя на берегу встречу. А не встречу, дом Ивана Дыркина, который по лесорубной части, тебе всяк покажет. Взаболь у нас так. So long, дядя. All the best! То есть пока! Всего наилучшего!
Видимо, как только я родился, мама стала приучать меня к труду. Никаких машинок и лошадок я не помню, а помню, что надо трудиться, если хочешь прилично жить. В доказательство мама пускала в ход старый валенок. И хотя он мягче отцовского ремня, все-таки однообразный труд я невзлюбил волчьей злобой. Мне тогда не хотелось приличной жизни, а возмужав, я сообразил, что между трудом и приличной жизнью нет прямой зависимости.
Тогда же, под воздействием труда и того злополучного валенка, я стал грустен и тих. Выучив уроки, вымыв посуду и управившись с полом, я садился в уголок и задумчиво смотрел в окно. На улицу меня не пускали, чтобы не сбился с пути. Считалось, что я уже на нем.
Однажды мать сказала:
— Отец, посмотри, какой у него пристальный взгляд.
Он взглянул на меня, будто впервые увидел.
— Да, умные глазенки.
— Как у Сан Саныча, — добавила мать, имея в виду своего начальника.
Я пошел к зеркалу — и с этого момента стал работать над взглядом целеустремленно, расширяя глаза и придавая им подспудную загадочность. Через неделю я смотрел, как умная собака в предчувствии кости.
Учительница сказала отцу:
— У вас очень вдумчивый мальчик.
Перед этим я, не отрываясь смотрел ей между глаз и не слышал ни одного слова из объяснений, потому что придавал взгляду наивысшую разумность.
Отец купил мне шахматы. Я же открыл пыльный том Канта, добытый на чердаке, сел у всех на виду и стал читать, не понимая ни строчки, как ничего не понимаю в нем и сейчас.
Мать обомлела. Отец смотрел на меня, как в то время смотрели на самолеты.
— Сын будет вождем, — гордо догадался он.
Какой сын не захочет оправдать доверие родителей. И я вырос и стал вождем в бухгалтерии — стал главным бухгалтером.
Целый день тону в цифрах, и над каждой цифрой приходится думать. Дабы получился баланс. Но в наш век не думают только тунеядцы. Поэтому я признаю два рода профессий: интеллектуальные и героические. Думает ученый или писатель пишет — это работа мозга. Шахтер в забое или летчик за штурвалом — чистая героика. Но кто мне объяснит, какая работа у кассира? Или у продавца, делопроизводителя, коменданта... Да мало ли таких работ — ни героического, ни духовного.
И шестилетнего сынишку приучаю к высокому в жизни. Вожу на английский язык и купил ему логарифмическую линейку — пусть пока играет.
После работы я иногда захожу в детский садик взять ребенка да подтрунить над воспитательницей. Молодая, белая да румяная, стоит она, как манекенщица посреди детской площадки.
— Все мерзнете? — спрашиваю я.
Она иронически улыбается, и на молочном лице написано, что валенок никогда не гулял по ее крутой спине.
—