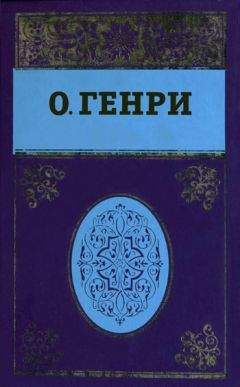— Здесь пятьсот долларов. Они — твои. Двести пятьдесят сразу, остальные…
— Он был моим другом, — вот что я хотел сказать, — закончил фразу капитан. — Скорее я увижу тебя вместе с твоей бандой в геенне огненной, чем стану давать показания против Пикеринга. Моему положению, конечно, не позавидуешь, я на мели, но я не предатель, а этот человек был моим другом. — Голос Капитана сорвался и звучал как расстроенный тромбон. — Ну-ка убирайся отсюда, Чарли Финнигэн, где воры, бродяги и пьяницы твои лучшие друзья, убирайся вместе со своими грязными деньгами.
Финнигэн перешел на другую дорожку. Капитан вернулся на свое место на скамейке.
— Знаешь, я все слышал, не мог не услышать, — мрачно сказал Мюррей. — Мне кажется, что ты самый большой дурак на свете. Никогда такого не видел.
— Ну а как бы ты поступил на моем месте? — спросил его Капитан.
— Как-как! Приколотил бы гвоздями Пикеринга к кресту, — ответил Мюррей.
— Извини, — сказал Капитан, хрипло, без особого подъема, — мы с тобой разные люди. Нью-Йорк разделен на две части — ту, что идет вверх от Сорок второй, и ту, что идет вниз от Четырнадцатой. Ты из другой части. У каждого свой светофор.
Освещенный циферблат, хорошо видимый над верхушками деревьев, сообщал, что до полуночи осталось полчаса. Оба вдруг встали со скамьи, словно обоих одновременно посетила одна и та же мысль, и пошли по дорожке. Они вышли из сквера, пересекли узкую улочку и вышли на Бродвей, который в этот поздний час был темным, пустынным и тихим, как проселочная дорога, ведущая в разрушенные Помпеи.
Там они повернули на север. Полицейский внимательно осмотрел их неухоженные, крадущиеся фигуры, которые могли вызвать подозрение у любого стража закона в любой час и в любом месте, ибо на каждой улице этой части города другие помятые и крадущиеся фигуры шаркая спешили к пункту сбора, к пункту, который не отмечен ни каким знаком, за исключением выбоин на тротуаре, протоптанных десятками тысяч торопящихся в ночлежку ног.
На Девятой улице какой-то высокий человек в цилиндре соскочил с бродвейского трамвая и устремил свой взор в пространство. Но вдруг, увидев Мюррея, подбежал к нему и потащил его к фонарному столбу. Капитан медленно, словно раненый медведь, доковылял до угла и ворча стал там ждать дальнейшего развития событий.
— Джерри! — закричал человек в шляпе, — Какая удача! Я собирался заняться твоими поисками прямо с утра. Старик капитулировал. Теперь ты снова в фаворе. Поздравляю! Приходи в офис завтра утром — получишь все деньги, которые только пожелаешь. У меня на твой счет весьма широкие полномочия.
— Ну а это матримониальное дельце? — спросил Мюррей, отвернувшись.
— Ну… да, да, конечно, твой дядя все понимает, ожидает что твое обручение с мисс Вандерхерст будет…
— Пока! — сказал Мюррей, отходя от него в сторону
— Ты что, с ума сошел? — закричал человек в цилиндре, схватив его за руку. — Неужели ты откажешься от двух миллионов из-за…
— Ты, старик, когда-нибудь видел ее шнобель? — спросил торжествуя Мюррей.
— Но, Джерри, ты должен поступать как здравомыслящий человек. Мисс Вандерхерст — наследница и…
— Нет, ты видел ее шнобель?
— Ну видел, должен признать, что носик у нее не…
— Пока! — повторил Мюррей. — Мой друг заждался меня. Я процитирую его и скажу, чтобы ты передал следующее: «ничего не поделаешь». Спокойной ночи!
Змеящаяся очередь ожидающих мужчин протянулась от двери на Третьей улице до Бродвея. Капитан с Мюрреем заняли свои места в хвосте этой извивающейся гусеницы-сороконожки.
— Прошлой ночью очередь была на двадцать футов длиннее, — отметил Мюррей, поглядывая на угол церкви Святой Благодати.
— Придется простоять с полчаса, чтобы получить свое гнилье, — проворчал Капитан.
Городские часы стали отбивать полночь. Хлебная очередь двигалась медленно, кожаные подметки шуршали по каменным плитам, словно шипящая змея, а те, у кого свой светофор, — замыкали ее хвост.
Перевод М. Лорие
Спят рыцари, ржавеют их мечи,
Лишь редко-редко кто из них проснется
И людям из могилы постучит.
Дорогой читатель! Было лето. Солнце жгло огромный город с немилосердной жестокостью. Солнцу трудно в одно и то же время быть жестоким и проявлять милосердие. Термометр показывал… нет, к черту термометр! — кому интересны сухие цифры? Было так жарко, что…
В кафе на крышах суетилось столько добавочных официантов, что можно было надеяться быстро получить стакан джина с содовой… после того как будут обслужены все остальные. В больницах были приготовлены добавочные койки для уличных зевак. Потому что когда лохматые собачки высовывают язык и говорят своим блохам: «Гав, гав», а нервные старухи в черных бомбазиновых платьях визжат: «Собака взбесилась!», и полисмены начинают стрелять, — тогда без пострадавших не обходится. Житель Помптона (штат Нью-Джерси), который всегда ходит в пальто, сидел в отеле на Бродвее, попивая горячее виски и нежась в немеркнущих лучах ацетиленовой лампы. Филантропы осаждали законодателей просьбами обязать домовладельцев строить более поместительные пожарные лестницы, чтобы люди могли умирать на них от солнечного удара не по одному или по два, а сразу целыми семьями. Такое множество знакомых рассказывали, сколько раз в день они принимают ванну, что оставалось только недоумевать, как же они будут жить дальше, когда хозяин квартиры возвратится в город и поблагодарит их за то, что они так хорошо о ней заботились. Тот молодой человек, что громко требовал в ресторане холодного мяса и пива, уверяя, что в такую погоду о жареных цыплятах и бургонском даже думать противно, краснел, встречаясь с вами взглядом: ведь вы всю зиму слышали, как он тихим голосом заказывал эти же самые, более чем скромные, яства. Супы стали жиже, актеры и бумажники — худее, а блузки и дружеские намеки на бейсбольной площадке — совсем прозрачными. Да, было лето.
На углу Тридцать четвертой улицы стоял человек и ждал трамвая — человек лет сорока, седой, румяный, нервный, весь словно натянутый, в дешевом костюме и с загнанным выражением усталых глаз. Он вытер платком лоб и громко засмеялся, когда проходивший мимо толстяк в туристском костюме остановился и заговорил с ним.
— Нет, любезнейший! — крикнул он сердито и вызывающе. — Никаких этих ваших болот с москитами и небоскребов без лифта, которые вы называете горами, я не признаю. Я умею спасаться от жары. Нью-Йорк, сэр, — вот лучший летний курорт во всей стране. Не ходите по солнцу, питайтесь с разбором да держитесь поближе к вентиляторам. Что такое все ваши горы, и Адирондакские и Кэтскилские? В одном Манхэттене больше комфорта, чем во всех других городах Америки, вместе взятых. Нет, любезнейший! Карабкаться на какие-то утесы, вскакивать в четыре часа утра, оттого что на тебя напала целая туча мошкары, питаться консервами, которые нужно везти из города, — нет, спасибо! В маленьком пансионе под вывеской Нью-Йорк и летом находится место для нескольких избранных постояльцев; комфорт и удобства семейного дома — вот это для меня.
— Вам нужно отдохнуть, — сказал толстяк, внимательно к нему присматриваясь. — Вы уже сколько лет не выезжали из города. Поехали бы со мной недели на две. Форель в Биверкилле так и бросается на все, что хоть отдаленно напоминает муху. Хардинг пишет, что на прошлой неделе поймал одну в три фунта весом.
— Ерунда! — воскликнул патриот столицы. — Если вам по душе проваливаться в трясину в резиновых сапогах и уставать до полусмерти, чтобы поймать одну несчастную рыбешку, — пожалуйста, на здоровье. Я, когда мне хочется рыбы, иду в какой-нибудь ресторанчик, где попрохладнее, и даю заказ официанту. Просто смешно делается, как подумаешь, что вы там носитесь по жаре и воображаете, будто хорошо проводите время. Мне подавайте усовершенствованную ферму папаши Никербокера да тенистую аллею, что пересекает ее из конца в конец.
Толстяк вздохнул и пошел дальше, сокрушаясь о своем приятеле. Человек, назвавший Нью-Йорк лучшим летним курортом страны, сел в трамвай и покатил в свою контору. По дороге он отшвырнул газету и поднял взгляд на лоскуток неба, видневшийся над крышами.
— Три фунта! — пробормотал он задумчиво. — Хардинг не стал бы врать. Вот если бы мне… да нет, невозможно, надо оставить их там еще на месяц, не меньше.
В конторе поборник летних радостей большого города с головой окунулся в бассейн деловых бумаг. Эдкинс, его клерк, вошел в комнату и подсыпал ему еще писем, служебных записок и телеграмм.
В пять часов утомленный делец откинулся на спинку стула, положил ноги на стол и подумал вслух:
— Интересно бы узнать, на какую наживку ловил Хардинг.