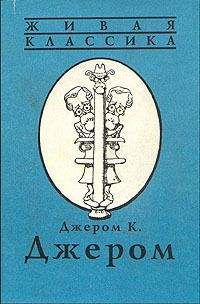Голых фактов на свете не существует. Лишь люди ограниченные, такие, как топографы, аукционисты и прочая подобная публика, могут утверждать, что сад, отделявший старый дом в георгианском стиле от Невиллс-Корт, представляет собой только полоску земли в сто восемнадцать на девяносто два фута, где произрастает ракитник — золотой дождь, шесть лавровых кустов и карликовая деодора. Для Натаниэла Джорджа и Джанет Гельвеции то была легендарная земля Туле, «пределы которой невозможно обойти человеку». По воскресеньям, если шел дождь, они играли в огромном и мрачном печатном цехе, где недвижно стояли огромные молчаливые великаны, железными своими руками готовые в любой момент схватить шалунишку. Но когда Натаниэлу Джорджу исполнилось восемь, а Джанет Гельвеции четыре с половиной, Езекия запустил в оборот знаменитый «Соус Гриндли», каковой придавал пикантность шницелям и бифштексам, превращал в истинное чудо холодную баранину и вскружил Езекии голову — а она по причине большого ума была отнюдь не маленькая, — отчего усохло его черствое сердце. Гриндли и Эпплярды перестали ходить друг к другу. Если у человека есть мозги, полагал Езекия, сам должен понимать, что появление Соуса изменило положение вещей. Если бы все оставалось по-прежнему, возможность поженить детей представлялась бы весьма заманчивой; однако теперь сын великого Гриндли, чье имя, написанное огромными буквами, глядело со всех вывесок, имел возможность рассчитывать на более достойную партию, нежели дочь печатника. Соломон, внезапно сделавшись ярым сторонником принципов средневекового феодализма, провозгласил, что уж лучше его единственное дитя, чей дед был автором «Истории Кеттлуэлла» и еще кое-каких трудов, умрет и будет похоронено в земле сырой, чем станет женой сына бакалейщика, даже если тот унаследует некое состояние, нажитое на отравлении почтенной публики смесью горчицы и кислого пива. Это случилось за много лет до того, как Натаниэл Джордж и Джанет Гельвеция встретились вновь, а к тому времени, когда это случилось, они уже успели позабыть друг о друге.
Езекия С. Гриндли, невысокий, плотный, важного вида джентльмен, восседал под пальмой в роскошно обставленной гостиной своего огромного дома в Ноттинг-Хилл. Миссис Гриндли, тощая, бесцветная женщина, приводившая своим видом в отчаяние собственную портниху, сидела в кресле, подставленном как можно ближе, насколько позволяла массивная и величественная накладная медь, к камину, и дрожала. Гриндли-младший, молодой статный блондин, с глазами, которые представительницы противоположного пола находили привлекательными, стоял, засунув руки в карманы, прислонясь к статуе Дианы, которую кто-то основательно лишил одежды, и чувствовал себя явно не в своей тарелке.
— Я зарабатываю деньги, и делаю это быстро. Тебе только остается их тратить, — говорил Гриндли-старший своему сыну и наследнику.
— Я и стараюсь, отец.
— В этом я не слишком уверен, — возразил Гриндли-старший. — Тебе следует доказать, что ты достоин их тратить. Не думаешь ли ты, что я надрываюсь все эти годы только для того, чтобы потворствовать прихотям молодого безмозглого кретина? Я завещаю свои деньги только тому, кто достоин меня. Вам ясно, сэр? Человеку, достойному меня самого!
Миссис Гриндли открыла было рот. Мистер Гриндли сверкнул на нее своими маленькими глазками. Фраза застряла у нее в горле.
— Ты что-то хотела сказать? — напомнил ей супруг.
Миссис Гриндли пролепетала что-то невразумительное.
— Если это достойно быть услышанным, если это соответствует направлению дискуссии, тогда прошу! — Мистер Гриндли подождал немного. — Если же нет, если вы сами считаете свою мысль недостойной продолжения, зачем тогда рот раскрывать?
Тут мистер Гриндли снова обратился к своему сыну и наследнику:
— Успехи твои в школе не слишком велики. В сущности, я разочарован твоей успеваемостью.
— Я думаю, мне не хватает сообразительности, — заметил младший Гриндли в свое оправдание.
— Но почему? Почему тебе ее не хватает?
Этого его сын и наследник не мог объяснить.
— Ты же мой сын, как можешь ты не быть сообразительным! Все это леность, сэр! Леность, и больше ничего!
— Я постараюсь преуспеть в Оксфорде, сэр! Честное благородное слово!
— Да уж постарайся, — настоятельно произнес его отец. — Ибо, предупреждаю, от этого зависит твое будущее. Ты меня знаешь. Я хочу гордиться тобой, хочу, чтобы ты стал достоин имени Гриндли. В противном случае, мой мальчик, ничего, кроме имени, тебе не останется.
Старый Гриндли слов на ветер не бросал, и сын его знал об этом. Инстинкт и принципы старого пуританства были сильны у старика, составляя, возможно, основу его характера. Праздность вызывала у него презрение; любовь к удовольствиям иным, нежели удовольствие делать деньги, была в его глазах равносильна тяжкому греху. Гриндли-младший искренне вознамерился преуспеть студентом Оксфорда и имел на то основания. Обвинив себя в недостатке сообразительности, он был к себе несправедлив. Юноша обладал и умом, и энергией, и характером. Но наши достоинства так же, как и наши недостатки, могут явиться изрядной помехой. Юный Гриндли обладал одним из тех восхитительных достоинств, которое в высшей степени требует постоянного контроля: он был компанейский парень. Перед обворожительным обаянием его дружелюбия пал даже оксфордский снобизм. Соус и его достойная уважения реклама были позабыты, маринады не шли в расчет. Избежать такого естественного результата личной популярности потребовало бы гораздо большей воли, чем та, которой обладал юный Гриндли. Какое-то время истинное положение дел оказывалось вне внимания Гриндли-старшего. Казалось, чего проще, «расслабившись» в этом семестре, сказать себе, что надо «поднажать» в следующем; трудности возникали лишь с началом очередного семестра. Возможно, и удалось бы юному Гриндли утаить правду о своем поведении, скрывая от глаз отца следы своих преступлений, если бы не одна печальная оказия. Возвращаясь как-то в колледж с другими подобными умниками часа в два ночи, юный Гриндли, дабы избежать лишнего шума, вздумал вырезать алмазом перстня стекло и таким образом проникнуть через окно к себе в комнаты, располагавшиеся на первом этаже. Но по ошибке он вломился в спальню ректора колледжа, — подобное несчастье, впрочем, может приключиться с каждым, кто, с вечера принявшись пить шампанское, к утру перешел на виски. Юный Гриндли, уже получивший до того два предупреждения, на сей раз был выдворен из Оксфорда. Тут-то, разумеется, и выплыли на свет все три беспечных года его учебы. Старый Гриндли, который, сидя в своем рабочем кресле, полчаса проговорил на повышенных тонах со своим сыном, в конце концов, то ли по причине физической усталости, то ли для достижения особого драматического эффекта, решил говорить медленней и сдержанней:
— Я предоставлю тебе, мой мальчик, последний шанс, всего один шанс. Я хотел сделать из тебя джентльмена... возможно, то была моя ошибка. Теперь я попытаюсь сделать из тебя бакалейщика.
— Кого?
— Бакалейщика, сэр... ба-ка-лей-щи-ка, бакалейщика, человека, который стоит за прилавком в белом переднике и без всякого пиджака. Того, кто продает покупателям — пожилым леди, юным девицам — чай, сахар, цукаты и все такое прочее. Того, кто встает в шесть утра, открывает ставни, выметает свою лавку, моет окна и витрины; того, кто имеет всего лишь полчаса на обед, едва успевая проглотить свою солонину с хлебом. Того, кто в десять вечера прикрывает ставни, прибирает в лавке, ужинает и ложится спать с мыслью, что день не прошел зря. Я хотел поберечь тебя. Я был не прав. Ты пройдешь через все ступени этого ремесла, как некогда прошел и я. Если по завершении двух лет ты научишься верно распоряжаться своим временем, кое-что уразумеешь, во всяком случае, сделаешься человеком, тогда ты сам придешь и скажешь мне спасибо.
— Боюсь, сэр, — проговорил Гриндли-младший, чья симпатичная физиономия стала к концу разговора бледной как мел, — что из меня выйдет не слишком ловкий бакалейщик. У меня, сэр, видите ли, нет никакого опыта в этом деле...
— Слава Богу, хоть это ты соображаешь, — сухо оборвал его отец. — Да, ты прав. Даже бакалейное дело требует выучки. Мне это обойдется в кое-какие деньги, но это будут последние средства, которые я на тебя потрачу. В первый год тебе надо подучиться, поэтому я подкину тебе кое-что на жизнь. Побольше, чем я имел в твои годы, — ну, скажем, фунт в неделю. Но потом содержать себя будешь сам.
Гриндли-старший поднялся.
— Даю тебе сроку до вечера. Ты уже не мальчик. Не примешь мое предложение — живи своим умом. Словом, либо делай, как я сказал, либо поступай как знаешь.
Юный Гриндли, твердостью характера во многом пошедший в отца, испытывал сильное искушение поступить по-своему. Но, удерживаемый, с другой стороны, природной мягкостью, унаследованной от матери, не мог противостоять ее слезам и потому принял в тот вечер условия, предложенные Гриндли — старшим, испросив единственное: чтоб отец оказал ему милость и избрал для его обучения бакалейному делу какой-либо отдаленный район, где юный Гриндли был бы лишен возможности повстречать старых приятелей.