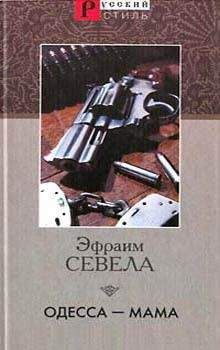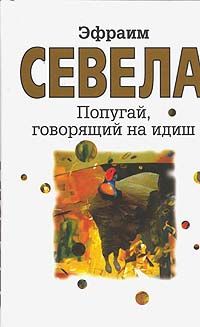Впихнули меня в автобус, а там — одни евреи, друг на дружке как сельди. Захлопнули железную дверь, и мы поехали. Через всю матушку-Москву. До Волоколамского шоссе. В знаменитый вытрезвитель.
Вытряхнули нас во внутреннем дворике, построили по двое и повели в помещение. В дверях — заминка. Столкнулись с другими, с настоящими алкоголиками, православными, которых выводили. Там-то меня и увидел Коля Мухин.
— Аркаша! Какими судьбами? — кричит.
И ко мне, в нашу колонну.
Тут нас стали торопить, чтоб не задерживались, и Коля Мухин со всеми евреями попал в большой зал, где нас рассадили по скамьям.
А за столом, крытым зеленым сукном, сидит не милиция, а КГБ. От капитана и выше. Всё — влипли! Сухими из воды не уйти. Будут шить политическое дело.
Положил я авоську с огурцами на колени и совсем поник. Даже не видел, что Коля Мухин вытащил один огурец, откусил и захрустел на весь зал.
За него первого и взялись.
— Эй, ты! — крикнули из-за стола с зеленым сукном. — Который огурец жрет! Встать! Подойти к столу!
Коля Мухин огрызок огурца положил на скамью возле меня и пошел к столу, слегка покачиваясь.
— Фамилия?
— Мухин, — отвечает Коля, — Николай Иванович.
— Николай Иванович Мухин? Довольно редкая фамилия для еврея, — усомнились за столом.
Коля обиделся.
— А это уж не вашего ума дело. Как назвали при рождении, так и с гордостью ношу.
— Молчать! — призвали его к порядку. — Год рождения? Социальное положение? Конечно, беспартийный?
— Почему же? Член КПСС с 1942 года.
— Засорили партийные ряды еврейской нечистью, — вздохнули мундиры за столом.
— Причем тут нация? — удивился Коля. — Мы коммунисты-интернационалисты. Между прочим, Карл Маркс, под портретом которого вы сидите, тоже был из евреев.
— Молчать! Не вступать в пререкания. Не видать тебе нашей партии, как своих ушей. Вычистим, чтоб духу не осталось.
— Это меня? — взревел Коля. — Фронтовика? Вы по каким тылам ошивались, когда я перед боем партийный билет получал?
— Осквернил ты, Мухин, опозорил свое прошлое. За чечевичную похлебку продался, за тридцать серебренников.
— Кому это я продался? — не понял Коля.
— Будто сам не знаешь? Сионистам! Международному капиталу. Хочешь советскую Россию на фашистский Израиль променять!
— Я? — ахнул Коля. — Да ты охренел!
За столом небольшое замешательство. Сразу тон сбавили.
— Погоди, погоди, Мухин, может, ты раздумал ехать в Израиль?
— А я и не думал.
— Значит, осознал, опомнился и раздумал?
— А на хрена он мне сдался, этот Израиль? — возмутился Коля. — Вы меня что, за дурака принимаете?
— Стой, Мухин, не горячись, — один майор выскочил к нему из-за стола и даже обнял. — Вот что, товарищ Мухин, ты — настоящий советский человек, и тебя международному сионизму не удалось поймать на крючок. Сорвалось у них, не вышло! — закричал он всем евреям в зале. — Берите пример с товарища Мухина, отрекитесь, пока не поздно, мы вас всех освободим и забудем, что было прежде. Скажи им, товарищ Мухин, пару слов.
Офицер дружески, совсем по-отечески, подтолкнул его к недоумевающим евреям на скамьях.
— А что я им могу сказать? — не понял Коля. — У них есть цель… На свою родину… В Израиль. Отчаянные ребята… Я их за это уважаю…
— Не то говоришь, — тронул его за плечо офицер.
Коля стряхнул его руку.
— А ты меня не учи, что говорить. Это при Сталине нам рот зажимали. Прошли ваши времена! Понял? Теперь коллективное руководство… без нарушений социалистической законности… И как русский человек… от всей души…
— Мухин! — оборвал его офицер. — Замолчи, сукин сын! А ну, покажи свой паспорт.
Коля лениво вытащил из-за пазухи мятую книжечку.
Офицер заглянул туда и швырнул на зеленое сукно остальным офицерам.
— Так ты же не еврей! — завопил он. — Чего сюда полез?
— Я и не говорил, что я еврей. Я — русский. Я тут ради дружка моего, ради Аркаши. Вот он, с огурцами.
— Вон отсюда, пьяная рожа! — закричал офицер, и я подумал, что его удар хватит. — Вон! Чтоб духу не было!
— Я — что? — пожал плечами Коля. — Я могу уйти. А как с Аркашей? Он ведь если пьет, то только норму…
— Оба — вон! — затопал ногами майор. — И тот карлик с огурцами — вон! Я вам покажу, как устраивать комедию из серьезного политического дела.
Хоть я и был обижен «карликом», но не стал ждать напоминания и, подхватив авоську с огурцами, бросился вслед за Колей к выходу.
За нашими спинами офицер орал на притихших евреев:
— Всех под суд! По всей строгости закона! Руки, ноги обломаем подлым предателям, сионистским выкормышам!
И тогда, уже в самых дверях, Коля повернулся на сто восемьдесят градусов и, сделав проникновенное лицо, как подобает герою, отчетливо и громко, чуть не со слезой произнес:
— Пусть отсохнет моя правая рука, если я забуду тебя, Иерусалим!
За зеленым сукном онемели, вопивший майор умолк и застыл на одной ноге. Я вытолкал Колю в коридор и захлопнул дверь.
Только на улице, пробежав метров пятьсот, мы остановились. И в очень неплохом месте. Прямо у входа в закусочную Моспищеторга.
В честь счастливого избавления мы приняли по сто пятьдесят грамм с прицепом и закусили египетскими огурцами. Хорошие, должен вам сказать, огурцы. Можно свободно обойтись без другой закуски.
А те чудаки, что остались в вытрезвителе, получили по пятнадцать суток тюремного заключения. Они потом устроили в тюрьме голодовку протеста. И им в поддержку евреи Нью-Йорка и Лондона провели бурные демонстрации и даже побили окна в советском посольстве, что и было, по-моему, единственным фактом хулиганства во всей этой истории, которая началась с простой авоськи и египетских огурцов.
Над Атлантическим океаном.
Высота — 30 600 футов.
Вот сейчас кругом все галдят: сионисты, сионисты. А что это такое, я вас спрашиваю? С чем это едят?
В последние годы в России каждый еврей переболел этой болезнью. Это вроде кори. Никуда не спасешься. Надо переболеть, если ты еврей, или наполовину еврей, или хоть на четвертушку.
Сионисты в Москве были разные, любого калибра. На выбор. Начиная с совершенно чумных, что перли на рожон, чуть не на штыки, и потом прохлаждались в Потьме, до тихих, краснеющих, которые скромно проползали в щель, пробитую первыми, и без особых хлопот приземлялись в Израиле.
Но я знал одного, у которого симптомы этой болезни были ни с чем несравнимы и такие, что не рассказать об этом, прямо грех.
Представьте себе семейную пару. Молодую, симпатичную. И вполне успевающую. Оба — критики. Нет, нет. Они не советскую власть критиковали и не бегали с кукишем в кармане. Наоборот. Даже члены партии.
Критик — это профессия. Они были музыкальные критики. Все советское они, когда критикуют, обязательно хвалят, а все заграничное, даже если хвалят, обязательно немножко покритикуют. Ничего не поделаешь. Такая профессия. Бывает и похуже. Например, санитар в психушке. Б-ррр!
Так они оба жили, беды не зная, занимались критикой и потихонечку накритиковали кооперативную квартиру в Доме композиторов на проспекте Мира, автомобиль «Жигули» и даже небольшую дачку на Московском водохранилище.
Как и у всех нормальных людей, у них была теща, которая, слава Богу, жила отдельно, но так любила свою единственную дочь, что навещала их ежедневно. Зять, конечно, не падал в обморок от счастья и однажды поставил тещу на место.
Я это к тому рассказываю, вы сами скоро убедитесь, что отношения зятя и тещи потом оригинально проявились в сионизме, который рано или поздно должен был добраться и до этого гнездышка.
Зять был человек ассимилированный и о еврействе вспоминал, лишь когда видел тещу у себя в гостях. И шерсть у него при этом становилась дыбом. Как полностью ассимилированный, он утратил еврейскую мягкость и в гневе допускал рукоприкладство, что сближало его с великим русским народом.
Теща дождалась своего часа.
Приходит как-то к ним в гости днем и застает такую картину. Зять лежит на диване, задрав ноги, и книгу читает, а ее единственная дочь ползает по паркету, натирая его шваброй. Теща взвыла с порога:
— Этого ли я ожидала на старости лет увидеть? Моя дочь, талантливейшая критикесса, как последняя рабыня, обслуживает это чудовище, хотя она кончила институт с отличием, а его еле вытянули за уши. Это он должен натирать паркет и целовать следы твои на нем.
Зять отложил книгу, спустил ноги с дивана и так спокойно-спокойно сказал:
— Правильно, мамаша.
И руку тянет к своей жене, а рука у него большая, тяжелая.
— Дай-ка швабру.
Жена не верит своим глазам — как прошибли мужа слова тещи, устыдился ведь и готов сам взяться за уборку.