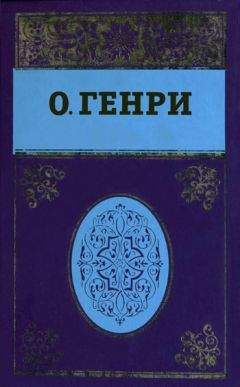Если женщина, сидевшая у стола в этой убого обставленной комнате, была Изабеллой Гилберт, то надо сказать, что молва не отдала должного ее чарующей прелести. Она склонилась головой на руку. В каждой линии ее тела чувствовалась страшная усталость; на ее лице была тревога. Глаза у нее были серые, той формы, какая, очевидно, присуща очам всех знаменитых покорительниц сердец; белки блестящие, необычайной белизны. Сверху они были спрятаны тяжелыми веками, снизу оставалась открытой белоснежная полоска. Такие глаза выражают великую силу, великое благородство и — если только можно вообразить себе это — самоотверженный и щедрый эгоизм. Когда американец вошел, она подняла глаза с видом удивленным, но не испуганным.
Гудвин снял шляпу и со свойственной ему спокойной непринужденностью уселся на край стола. В руке у него дымилась сигара. Он решил быть фамильярным, так как знал, что слишком церемониться с мисс Гилберт не стоит: церемонии не приведут ни к чему. Он знал ее жизнь; ему было известно, какую малую роль играли в этой жизни условности.
— Добрый вечер, — сказал он. — Ну, madame, не будемте мешкать, давайте сейчас же поговорим о делах. Я не называю имен, но я знаю, кто находится в соседней комнате и что у него в саквояже. Это-то и привело меня сюда. Я пришел сказать вам: сдавайтесь без боя — я сейчас же продиктую вам условия.
Дама не шевельнулась и не сказала ни слова. Не отрываясь смотрела она на кончик его сигары.
— Мы, — продолжал Гудвин, раскачивая ногою и разглядывая свою изящную туфлю из оленьей кожи, — я говорю от лица значительного большинства всего народа, — мы требуем возвращения украденных денег, которые принадлежат народу; больше мы, в сущности, ничего не хотим. Наши требования очень несложны. Как представитель народа, я даю вам честное слово, что, если вы возвратите нам деньги, мы не применим к вам никакого насилия. Отдайте наши деньги и уезжайте с вашим спутником, куда хотите. Вам даже будет оказана помощь; вам помогут уехать отсюда на любом пароходе, на каком вы только пожелаете. От себя же я могу только присовокупить, что у джентльмена из десятого номера удивительно тонкий вкус в отношении женской красоты.
Гудвин снова сунул сигару в рот и заметил, что дама ледяным взглядом следит за нею, подчеркнуто сосредоточив на ней все свое внимание. Очевидно, она не слыхала ни слова. Он спохватился, выбросил сигару в окно и с веселым смехом встал со стола.
— Так лучше, — сказала дама. — Теперь я могу выслушать вас. Если вы хотите получить от меня еще один урок хороших манер, скажите мне ваше имя. Нужно же мне знать, как зовут человека, который оскорбляет меня.
— Жаль, — сказал Гудвин, опираясь рукой о стол, — нет у меня сейчас времени для этикета. Послушайте, я обращаюсь к вашему здравому смыслу. Вы не раз доказывали, что хорошо понимаете, в чем состоит ваша выгода. Вот вам еще один случай обнаружить вашу незаурядную смышленость. В этом деле секретов нет. Я — Франк Гудвин. Я пришел за деньгами. Я очутился в вашей комнате случайно. Если бы я вошел в соседний номер, деньги уже давно были бы у меня в руках. Вы хотите, чтобы я сказал вам, в чем дело? Извольте. Джентльмен из десятого номера пользовался доверием народа, но похитил деньги. Я решил вернуть эти деньги народу. Я не говорю, кто этот джентльмен; но если обстоятельства заставят меня увидеться с ним и он окажется высоким должностным лицом республики, я сочту своим долгом арестовать его. Этот дом под охраной, убежать невозможно. Я предлагаю вам отличные условия, Я даже готов отказаться от личной беседы с джентльменом из десятого номера. Принесите мне саквояж с деньгами, и больше мне ничего не надо.
Дама встала с кресла и целую минуту стояла в глубоком раздумье.
— Вы живете здесь, мистер Гудвин? — спросила она наконец.
— Да.
— По какому праву вы вошли в мою комнату?
— Я служу республике. Мне сообщили по телеграфу о маршруте… джентльмена из десятого номера.
— Можно задать вам два или три вопроса? Мне кажется, что вы скажете правду. Правдивости в вас, кажется, больше, чем деликатности. Что это за город — этот… Коралио, так, кажется, он называется?
— Ну какой же это город! — сказал Гудвин с улыбкой. — Так, городишко банановый! Соломенные лачуги, глинобитные домики, пять-шесть двухэтажных домов, удобств мало; население: помесь индейцев с испанцами, карибы, чернокожие. Развлечений никаких. Нравственность в упадке. Даже тротуаров порядочных нет. Вот вам описание Коралио, очень, конечно, поверхностное.
— Но есть же и достоинства, не правда ли? Есть что-нибудь, что могло бы заставить людей из хорошего общества или дельцов поселиться в этом городе надолго?
— О да! — сказал Гудвин, широко улыбаясь. — Достоинства есть, и огромные. Во-первых, полное отсутствие шарманок. Во-вторых, никого не приглашают к вечернему чаю. И в-третьих, широкое гостеприимство для преступников: бежавшие сюда преступники не выдаются властям той страны, откуда они убежали.
— А он говорил мне, — промолвила дама, слегка нахмурившись и словно думая вслух, — что тут, на этом берегу, красивые большие города, что в них очень хорошее общество, особенно американская колония, состоящая из очень культурных людей.
— Да, здесь есть американская колония, — сказал Гудвин, с некоторым удивлением взирая на даму, — иные из них ничего. Но иные убежали от правосудия. Я помню двух сбежавших директоров банка, одного полкового казначея с подмоченной репутацией, двух убийц и некую вдову — ее, кажется, подозревали в отравлении мужа мышьяком. Я тоже принадлежу к этой колонии, но до сих пор, кажется, еще не прославил себя никаким сколько-нибудь заметным преступлением.
— Не теряйте надежды, — сказала дама сухо, — ваше сегодняшнее поведение служит залогом того, что вы скоро прославитесь. Произошла какая-то ошибка. Я не знаю, в чем дело, но ошибка произошла несомненно. Но его вы не должны тревожить. Путешествие утомило его. Он буквально свалился с ног и, кажется, заснул не раздеваясь. Вы говорите об украденных деньгах! Я вас не понимаю. Вы, несомненно, ошиблись, и я сейчас же докажу вам это. Подождите здесь, я сейчас принесу саквояж, о котором вы так страстно мечтаете.
Она направилась к закрытой двери, что соединяла оба номера, но остановилась и окинула Гудвина серьезным, испытующим взглядом, который разрешился непонятной улыбкой.
— Вы насильно ворвались в мою комнату, вы вели себя как грубиян и предъявили мне позорнейшие обвинения; и все же… — тут она помедлила, как бы ища подходящее слово, — и все же… и все же это очень странно. Я уверена, что произошла ошибка.
Она сделала шаг к двери, но Гудвин остановил ее легким прикосновением руки. Я уже говорил, что женщины невольно оглядывались, когда он проходил мимо них. Он был из породы викингов, большой, благообразный и добродушно-воинственный. Она была брюнетка, очень гордая, ее щеки то бледнели, то пылали. Я не знаю, брюнетка или блондинка была Ева, но мудрено ли, что яблоко было съедено, если такая женщина обитала в раю?
Этой женщине суждено было сыграть большую роль в жизни Гудвина, но он еще не знал этого; все же какое-то предчувствие у него, очевидно, было, потому что, глядя на нее и вспоминая то, что о ней говорили, он испытал очень горькое чувство.
— Если и произошла здесь ошибка, — сказал Гудвин запальчиво, — то виноваты в этом вы. Я не обвиняю человека, который простился с родиной и честью и скоро должен будет проститься с последним утешением — с украденными деньгами. Во всем виноваты вы. Я теперь понимаю, что привело его к этому. Я понимаю и жалею его. Именно такие женщины, как вы, заполняют наше побережье несчастными, которые принуждены здесь скрываться. Именно из-за таких мужчины забывают свой долг и доходят…
Дама остановила его усталым движением руки.
— Прекратите ваши оскорбления, — холодно сказала она, — я не знаю, о чем вы говорите, я не знаю, какая глупая ошибка привела вас сюда, но если я избавлюсь от вас, показав вам этот саквояж, я принесу его сию же минуту.
Она быстро и бесшумно вошла в соседнюю комнату и вернулась с тяжелым кожаным саквояжем, который и вручила американцу с видом покорного презрения.
Гудвин быстро поставил саквояж на стол и начал отстегивать ремни. Дама стояла подле с выражением бесконечной гадливости и утомления.
Саквояж широко распахнул свою пасть. Когда Гудвин извлек оттуда лежавшее сверху белье, внизу оказались туго перевязанные пачки крупных кредитных билетов государственного банка Соединенных Штатов. Судя по цифрам, написанным на бандеролях, там было никак не меньше ста тысяч.
Гудвин поднял глаза на женщину и увидел с удивлением и странным удовольствием (почему с удовольствием, он и сам не умел бы сказать), что она потрясена непритворно. Глаза ее расширились, у нее захватило дыхание, и она тяжело облокотилась о стол. Значит, она и вправду не знала, что ее спутник ограбил казну. Но почему, с раздражением допытывался Гудвин у себя самого, он так обрадовался, убедившись, что эта бродячая авантюристка-певица совсем не так черна, как ее изображала досужая сплетня?