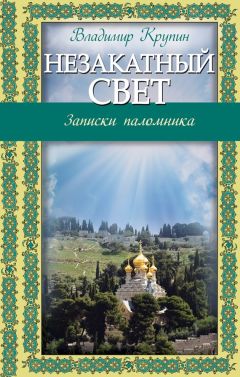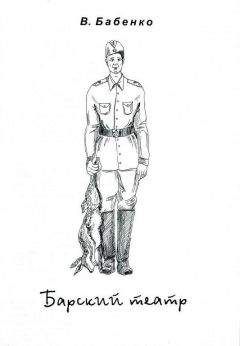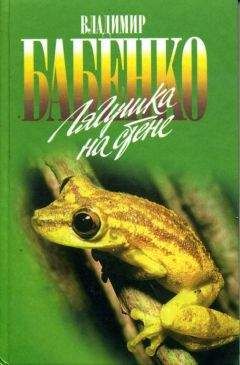Паша из звериного отдела даже увлекся резьбой по мылу, но закончив только две серии: «Совы» и «Русские женщины», охладел к этому материалу.
Этикеточное однообразие Ваниного существования также скрашивали перманентный ремонт и связанная с ним разгрузка машин с фанерой, кирпичом, металлическим уголком, досками, цементом, канистрами со спиртом, мешками с нафталином и еще многим другим, чем удалось разжиться запасливому Василию Вениаминовичу.
Только в эти дни Ване удавалось проникнуть на последний, глубинный уровень, в самое сердце Кунсткамеры — в подвалы, которые находились еще глубже, чем логово препараторов. Тараканы там водились размером с блюдце, с кирпичных сводов свисали длинные пряди селитры, а в абсолютной темноте и тишине хранились штабели досок, железных уголков и двутавровых балок, фанерные щиты, 12 огромных гипсовых бюстов Дарвина (причем на затылке каждого виднелась дырочка, но это было не пулевое отверстие, а технологическое), огромные витринные стекла, бочки с краской, мешки с цементом и нафталином, хрустальные банки для влажных препаратов, полученные после войны по репарации и самое главное — весь неприкосновенный золотой запас Кунсткамеры — двадцать сорокалитровых канистр спирта-ректификата.
Иногда Ване приходилось выполнять задания особого рода. Однажды ему пришлось ехать в крытом грузовике вместе с чучелами четырех оленей-рогачей, и он только чудом не лишился глаз.
А сегодня неуемная директриса раздобыла где-то в Москве тушу целого, хотя и небольшого, кита с намерением препарировать его скелет для экспозиции. А так как подходящей емкости для обработки кита почему-то не нашлось, директрисе пришла в голову гениальная мысль закопать зверя на газоне перед Кунсткамерой, а через год, когда кита обработает почвенная фауна, выкопать уже чистые кости.
Студенты и преподаватели, торопившиеся на занятия в консерваторию, по-разному: опасливо, равнодушно, с настороженностью, с брезгливостью или с болезненно-сочувственным любопытством, наблюдали, как в сквере, принадлежащем Кунсткамере, несколько молодых людей (среди которых, конечно, был и Ваня) занимались похоронными работами. Они громко переговариваясь прямо на газоне, копали огромную яму для такого же огромного, укрытого окровавленным брезентом трупа, который лежал тут же под голубой елью.
После того, как яма была готова, брезент был убран, и кит, лежащий под ним, усилиями все тех же лаборантов был сброшен вагами в могилу. Яму засыпали, а препаратор Корнет наскоро смастерил из подвернувшихся дощечек деревянный крестик, приладил к нему обертку от только что съеденной шоколадки «Аленка» и воткнул в холм. Галдящая ватага скрылась в дверях Кунсткамеры, оставив на газоне при входе в заведение мрачное сооружение.
А через полчаса из дверей Кунсткамеры вышел переодевшийся после похоронных работ Ваня и заспешил в театр. Там сегодня давали «Свадьбу Фигаро».
* * *
Керубино нежно ворковал с графиней. Вот-вот должен был появиться граф. Играющий графа актер, стоя за кулисами, уже готов был решительно постучать в дверь, ведущую в покои графини. Стучать, согласно сценарию, граф должен был громко и требовательно. И тут оказалось, что стучать не чем. Табурет, который граф использовал в качестве ударного инструмента (бутафорские матерчатые двери для этого не годились) стоял на месте, а вот то, чем по нему бить (а это была деревянная дубина), — исчезло, — кто то ее «увел».
Граф Альмавива делал страшное лицо, призывая кого-нибудь из персонала помочь и принести ему эту «барабанную палочку». Его гримасы увидел режиссер, стоящий за кулисами на другом конце сцены. Он огляделся и обнаружил в углу топор, оставленный театральным плотником. Режиссер схватил его, сунул в руки стоящему рядом Ване и приказал доставить инструмент страдающему Альмавиве. Как раз в это время настал черед реплики графа, и он грозным голосом призвал графиню открыть.
Та жеманилась и не открывала.
Тогда Альмавива стал стучать кулаком по табурету. Но этот звук в зале был еле слышен, и стук графа получился не требовательный, а скорее просящий, чем внес неожиданный акцент в этот эпизод.
Ваня, видя как страдает Альмавива, двинулся ему на выручку.
За сценой в это время висело несколько полупрозрачных задников, которые образовывали ряд параллельных коридоров. И Ваня по неопытности, пошел не по дальнему и даже не по среднему, а по самому ближнему к сцене.
И зрители с трепетом наблюдали, как в глубине за мечущимся Керубино, за ломающей руки Графиней неторопливо и бесстрастно прошествовала полуосвещенная фигура в черной хламиде (на Ване был рабочий халат не по росту), державшая в руках тускло поблескивающий топор. Умудренные театралы вообще восприняли Ванину фигуру аллегорически: как судьбу, рок или смерть, неотвратимо следующую за обуреваемыми мелкими страстишками героями спектакля.
Но все, сидевшие в зале, — и посвященные, и дилетанты — вздрогнули, услышав громкий и требовательный стук Альмавивы в дверь своей жены (рабочий сцены, наконец, передал ему «посылку» от режиссера, и граф во всю мочь заколотил обухом по табурету). А когда граф ворвался в покои Розины, зрители заворожено смотрели на его руки, ожидая увидеть в них принесенный Ваней топор.
День начался как обычно. Дисциплинированный Олег пришел вовремя — в 8.45, тогда как его подчиненные, — остальные сотрудники отдела орнитологии прибывали с интервалами в 15 минут. Ровно в 9.00, то есть опоздав на 15 минут, пришла Людочка. Олег выразительно посмотрел на нее, и она смутилась. Потом через четверть часа прибыл мечтательный Ваня, и Олег посмотрел на него еще более выразительно. Но Ваня не заметил этого, так как по складу своего характера очень многого в этой жизни не замечал вообще. Наконец, в половине десятого прибыл я. На меня Олег так «стрельнул» глазами, что я подумал, что Теплов в Кунсткамере сумел растлить всех, даже моего черствого начальника.
Луч майского солнца заиграл на куполах Кремля и осветил край громадного серой коробки гостиницы. В вертикальном ряду всех угловых окон «Интернационаля» виднелись развешенные для просушки женские трусики. Этот феномен занимал меня все годы, в течение которых я работал в Кунсткамере. Почему только в этих окнах? Кто там обитает — постоянные гостиничные проститутки? И что, гостиница так и проектировалась, с этими подсобными номерами? Или как? Не понятно...
Через два часа после начала моего рабочего дня весеннее солнце нагрело помещение отдела орнитологии. Тепло вызвало возгонку нафталина — основного вещества, которым мы протравливали коллекции, чтобы там не завелись моль и жучки-кожееды. Запах этого ароматического углеводорода стал нестерпимым, и поэтому я встал, взял из портфеля сверточек и направился к выходу.
— Я пошел обедать, — сказал я начальнику.
Олег укоризненно посмотрел на меня. Он всегда так смотрел на подчиненных, когда они покидали рабочее место, но с особой укоризной почему-то только на меня в момент начала обеденного перерыва. Я догадывался почему. Потому что обеденный перерыв, который ежедневно отмечался у Теплова и именовался чайной церемонией, длился не менее двух часов. Но, тем не менее, я, взяв свои бутерброды, устремился по винтовой лестнице из птичьего (точнее — орнитологического) поднебесья вниз, к земле, к беспозвоночным.
Орнитологи, жили на четвертом этаже, на самом верху, поближе к пернатым — ангелам и птицам, а все остальные обитатели Кунсткамеры располагались этажами ниже.
Я на цыпочках прокрался мимо отдела млекопитающих. Там обитала грубая директриса Кунсткамеры, с совершенно непредсказуемым характером, поэтому встреча с ней для каждого сотрудника была нежелательной. Но из-за двери териологов слышались размеренные удары — это лаборант Паша отрабатывал удары каратэ по специально сработанной для этого доске-макиваре. Значит, директриса отсутствовала. Отдел маммологии пах так же как и наш отдел — нафталином. Этажом ниже жили тихие энтомологи. Нафталином они пахли слабее, но к этому запаху у них примешивался тонкий аромат миндаля — свои объекты они умерщвляли синильной кислотой. Я заглянул в полураскрытую дверь этого безобидного отдела в надежде найти попутчика. Но коридор был пуст, и в нем только виднелись деревянные полированные шкафы старинной работы, в которых хранились бесчисленные коллекции насекомых.
На втором этаже я прошел мимо небольшого полутемного зала (электричество там включали только для экскурсантов), в котором громоздилась гордость нашей директрисы — реконструкция стоянки первобытного человека, миновал отдел ихтиологии настолько нестерпимо благоухавший формалином, что заслезились глаза, обогнул скелет мамонта, стоявший у дверей общественного туалета, и, спустившись на первый этаж, наконец очутился перед дверью, над которой висела картина, изображавшая морское дно с красивыми улитками. Здесь, в отделе малакологии, мы ежедневно пили чай. Я без стука открыл дверь и зашел в кабинет Теплова. Я как всегда пришел первым.