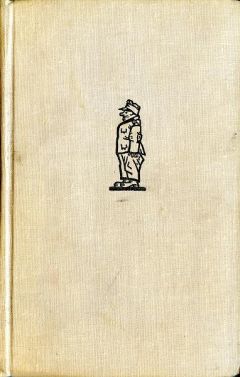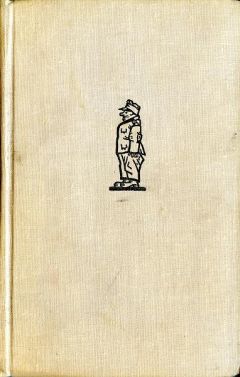— Этот человек исполняет свой долг, но он подвергает себя большой опасности. Что, если винтовка у него заряжена, курок на боевом взводе? Ведь этак легко может статься, что, в то время как он колотит прикладом по плечу пленного, курок спустится, весь заряд влетит ему в глотку и он умрёт при исполнении своего долга! На Шумаве в одной каменоломне рабочие воровали динамитные запалы, чтобы зимой было легче выкорчёвывать пни. Сторож каменоломни получил приказ всех поголовно обыскивать при выходе и ревностно принялся за это дело. Схватив первого попавшегося рабочего, он с такой силой начал хлопать по его карманам, что динамитные запалы взорвались и они оба взлетели в воздух. Когда сторож и каменоломщик летели по воздуху, казалось, что они сжимают друг друга а предсмертных объятиях.
Пленный русский, которому Швейк рассказывал эту историю, недоумевающе смотрел на него, и было ясно, что из всей речи он не понял ни слова.
— Не понимат, я крымский татарин. Аллах ахпер.
Татарин сел на землю и, скрестив ноги и сложив руки на груди, начал молиться: «Аллах ахпер — аллах ахпер — безмила — арахман — арахим — малинкин мустафир».{197}
— Так ты, выходит, татарин? — с сочувствием протянул Швейк. — Тебе повезло. Раз ты татарин, то должен понимать меня, а я тебя. Гм! Знаешь Ярослава из Штернберга?{198} Даже имени такого не слыхал, татарское отродье? Тот вам наложил у Гостина по первое число. Вы, татарва, тогда улепётывали с Моравы во все лопатки. Видно, в ваших школах этому не учат, а у нас учат. Знаешь Гостинскую божью матерь?{199} Ясно, не знаешь. Она тоже была при этом. Да всё равно теперь вас, татарву, в плену всех окрестят!
Швейк обратился к другому пленному:
— Ты тоже татарин?
Спрошенный понял слово «татарин» и покачал головой:
— Татарин нет, черкес, мой родной черкес, секим башка.
Швейку очень везло. Он очутился в обществе представителей различных восточных народов. В эшелоне ехали татары, грузины, осетины, черкесы, мордвины и калмыки.
К несчастью, он ни с кем из них не мог сговориться, и его наравне с другими потащили в Добромиль, где должен был начаться ремонт дороги через Перемышль на Нижанковичи.
В этапном управлении в Добромиле их переписали, что было очень трудно, так как ни один из трёхсот пленных, пригнанных в Добромиль, не понимал русского языка, на котором изъяснялся сидевший за столом писарь. Фельдфебель-писарь заявил в своё время, что знает русский язык, и теперь в Восточной Галиции выступал в роли переводчика. Добрых три недели тому назад он заказал немецко-русский словарь и разговорник, но они до сих пор не пришли. Так что вместо русского языка он объяснялся на ломаном словацком языке, который кое-как усвоил, когда в качестве представителя венской фирмы продавал в Словакии иконы св. Стефана, кропильницы и чётки.
С этими странными субъектами он никак не мог договориться и растерялся. Он вышел из канцелярии и заорал на пленных: «Wer kann deutsch sprechen?» 285
Из толпы выступил Швейк и с радостным лицом устремился к писарю, который велел ему немедленно следовать за ним в канцелярию.
Писарь уселся за списки, за груду бланков, в которые вносились фамилия, происхождение, подданство пленного, и тут произошёл забавный разговор по-немецки.
— Ты еврей? Так? — спросил он Швейка.
Швейк отрицательно покачал головой.
— Не запирайся! Каждый из вас, пленных, знающих по-немецки, еврей, — уверенно продолжал писарь-переводчик. — И баста! Как твоя фамилия? Швейх? Ну, видишь, чего же ты запираешься, когда у тебя такая еврейская фамилия? У нас тебе бояться нечего: можешь признаться в этом. У нас в Австрии еврейских погромов не устраивают. Откуда ты? Ага, Прага, знаю… знаю, это около Варшавы.{200} У меня уже были неделю тому назад два еврея из Праги, из-под Варшавы. А какой номер у твоего полка? Девяносто первый?
Старший писарь взял военный справочник и принялся его перелистывать.
— Девяносто первый полк, эреванский, Кавказ, кадры его в Тифлисе; удивляешься, как это мы здесь всё знаем?
Швейка действительно удивляла вся эта история, а писарь очень серьёзно продолжал, подавая Швейку свою наполовину недокуренную сигарету:
— Этот табак получше вашей махорки. Я здесь, еврейчик, высшее начальство. Если я что сказал, всё дрожит и прячется. У нас в армии не такая дисциплина, как у вас. Ваш царь — сволочь, а наш — голова! Я тебе сейчас кое-что покажу, чтобы ты знал, какая у нас дисциплина.
Он открыл дверь в соседнюю комнату и крикнул:
— Ганс Лефлер!
— Hier! — послышался ответ, и в комнату вошёл зобатый штириец с плаксивым лицом кретина. В этапном управлении он был на ролях прислуги.
— Ганс Лефлер, — приказал писарь, — достань мою трубку, возьми в зубы, как собаки носят, и бегай на четвереньках вокруг стола, пока я не скажу: «Halt!» При этом ты лай, но так, чтобы трубка изо рта не выпала, не то я прикажу тебя связать.
Зобатый штириец принялся ползать на четвереньках и лаять.
Старший писарь торжествующе посмотрел на Швейка:
— Ну, что я говорил? Видишь, еврейчик, какая у нас дисциплина? И писарь с удовлетворением посмотрел на бессловесную солдатскую тварь, попавшую сюда из далёкого альпийского пастушьего шалаша.
— Halt! — наконец сказал он. — Теперь служи, апорт трубку! Хорошо, а теперь спой по-тирольски!
В помещении раздался рёв: «Голарио, голарио…»
Когда представление окончилось, писарь вытащил из ящика четыре сигареты «Спорт» и великодушно подарил их Гансу, и тут Швейк на ломаном немецком языке принялся рассказывать, что в одном полку у одного офицера был такой же послушный денщик. Он делал всё, что ни пожелает его господин. Когда его спросили, сможет ли он по приказу своего офицера сожрать ложку его кала, он ответил: «Если господин лейтенант прикажет — я сожру, только чтобы в нём не попался волос. Я страшно брезглив, и меня тут же стошнит».
Писарь засмеялся:
— У вас, евреев, очень остроумные анекдоты, но я готов побиться об заклад, что дисциплина в вашей армии не такая, как у нас. Ну, перейдём к главному. Я назначаю тебя старшим в эшелоне. К вечеру ты перепишешь мне фамилии всех остальных пленных. Будешь получать на них питание, разделишь их по десяти человек. Ты головой отвечаешь за каждого! Если кто сбежит, еврейчик, мы тебя расстреляем!
— Я хотел бы с вами побеседовать, господин писарь, — сказал Швейк.
— Только никаких сделок, — отрезал писарь. — Я этого не люблю, не то пошлю тебя в лагерь. Больно быстро ты у нас, в Австрии, акклиматизировался. Уже хочешь со мной поговорить частным образом… Чем лучше с вами, пленными, обращаешься, тем хуже… А теперь убирайся, вот тебе бумага и карандаш, и составляй список! Ну, чего ещё?
— Ich melde gehorsam, Herr Feldwebl! 286
— Вылетай! Видишь, сколько у меня работы! — Писарь изобразил на лице крайнюю усталость.
Швейк отдал честь и направился к пленным, подумав при этом: «Муки, принятые во имя государя императора, приносят плоды!»
С составлением списка дело обстояло хуже. Пленные долго не могли понять, что им следует назвать свою фамилию. Швейк много повидал на своём веку, но всё же эти татарские, грузинские и мордовские имена не лезли ему в голову. «Мне никто не поверит, — подумал Швейк, — что на свете могут быть такие фамилии, как у этих татар: Муглагалей Абдрахманов — Беймурат Аллагали — Джередже Чердедже — Давлатбалей Нурдагалеев и так далее. У нас фамилии много лучше. Например, у священника в Живогошти фамилия «Вобейда» 287.
Он опять пошёл по рядам пленных, которые один за другим выкрикивали свои имена и фамилии: Джидралей Ганемалей — Бабамулей Мирзагали и так далее.
— Как это ты язык не прикусишь? — добродушно улыбаясь, говорил каждому из них Швейк. — Куда лучше наши имена и фамилии: Богуслав Штепанек, Ярослав Матоушек или Ружена Свободова.
Когда после страшных мучений Швейк наконец переписал всех этих Бабуля Галлее, Худжи Муджи, он решил ещё раз объяснить переводчику-писарю, что он жертва недоразумения, что по дороге, когда его гнали вместе с пленными, он несколько раз тщетно добивался справедливости.
Писарь-переводчик ещё с утра был не вполне трезв, а теперь совершенно потерял способность рассуждать здраво. Перед ним лежала страница объявлений из какой-то немецкой газеты, и он на мотив марша Радецкого распевал: «Граммофон меняю на детскую коляску!», «Покупаю бой белого и зелёного листового стекла», «Каждый может научиться составлять счета и балансы, если пройдёт заочные курсы бухгалтерии» и так далее.
Для некоторых объявлений мотив марша не подходил. Однако писарь прилагал все усилия, чтобы преодолеть это неожиданное препятствие, и поэтому, отбивая такт, колотил кулаком по столу и топал ногами. Его усы, слипшиеся от контушовки, торчали в разные стороны, словно в каждую щёку ему кто-то воткнул по засохшей кисточке от гуммиарабика. Правда, его опухшие глаза заметили Швейка, но их обладатель никак не реагировал на это открытие. Писарь перестал только стучать кулаком и ногами. Зато он начал барабанить по стулу, распевая на мотив «Ich weis nicht, was soll es bedeuten» 288 новое объявление: «Каролина Дрегер, повивальная бабка, предлагает свои услуги достоуважаемым дамам во всех случаях…»