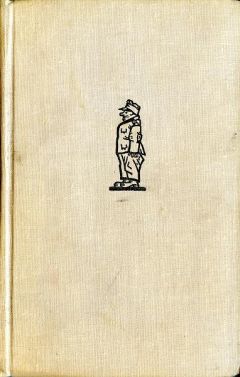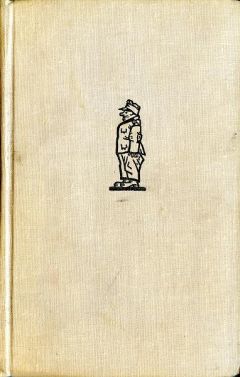На квартире его ожидал небольшой сюрприз. Он подоспел как раз вовремя…
В коридоре квартиры стоял генерал Финк. Он держал за шиворот денщика и, тряся его изо всех сил, орал:
— Где твой майор, скотина? Отвечай, животное!
Но животное не отвечало. Лицо у него посинело: генерал слишком сильно сдавил ему горло.
Подошедший во время этой сцены майор заметил, что несчастный денщик крепко держит под мышкой его шинель и саблю, которые он, очевидно, принёс из передней генерала.
Сцена эта показалась майору забавной, поэтому он остановился у приоткрытой двери и молча смотрел на страдания своего верного слуги, давно уже сидевшего у него в печёнках: денщик постоянно его обворовывал. Генерал на момент выпустил посиневшего денщика, единственно для того, чтобы вынуть из кармана телеграмму, которой затем он стал хлестать денщика по лицу и по губам, крича при этом:
— Где твой майор, скотина? Где твой майор-аудитор, скотина, я должен передать ему служебную телеграмму…
— Я здесь, — отозвался майор Дервота, которому сочетание слов «майор-аудитор» и «телеграмма» снова напомнило о его прямых обязанностях.
— А-а! — воскликнул генерал Финк. — Ты вернулся?
В его голосе было столько яду, что майор ничего не ответил и в нерешительности остался стоять в дверях.
Генерал приказал ему следовать за ним в комнату. Когда они сели, он бросил исхлёстанную об денщика телеграмму на стол и произнёс трагическим голосом:
— Читай, это твоя работа.
Пока майор читал телеграмму, генерал бегал по комнате, опрокидывая стулья и табуретки, и вопил:
— А всё-таки я его повешу!
Телеграмма гласила следующее:
«Пехотинец Йозеф Швейк, ординарец одиннадцатой маршевой роты, пропал без вести 16-го с. м. на переходе Хыров — Фельдштейн, будучи командирован как квартирьер. Немедленно отправить пехотинца Швейка в Воялич, в штаб бригады».
Майор выдвинул ящик стола, достал оттуда карту и задумался: Фельдштейн находится в сорока километрах к юго-востоку от Перемышля. Каким образом к Швейку попала русская форма в местности, находящейся на расстоянии свыше ста пятидесяти километров от фронта, — остаётся неразрешимой загадкой. Ведь окопы тянутся по линии Сокаль — Турзе — Козлов.
Когда майор сообщил об этом генералу и показал на карте место, где, согласно телеграмме, несколько дней назад пропал Швейк, генерал заревел, как бык, так как почувствовал, что все его надежды на полевой суд рассыпались в пух и прах. Он подошёл к телефону, вызвал караульное помещение и отдал приказ — немедленно привести на квартиру майора арестанта Швейка.
В ожидании исполнения приказа генерал со страшными проклятиями выражал свою досаду на то, что не распорядился повесить Швейка немедленно, на собственный риск, без всякого следствия.
Майор возражал и всё твердил что-то о законе и справедливости, которые идут рука об руку; он в пышных периодах ораторствовал о справедливом суде, о роковых судебных ошибках и вообще обо всём, что приходило ему на ум, ибо с похмелья у него сильно болела голова и он испытывал потребность рассеяться разговором.
Когда Швейка, наконец, привели, майор приказал ему объяснить, что произошло у Фельдштейна и откуда вообще взялась эта русская форма.
Швейк объяснил всё надлежащим образом, подкрепив свои положения примерами из истории людских мытарств. Когда майор спросил, почему он об этом не говорил на допросе, Швейк ответил, что его, собственно, никто и не спрашивал. Все вопросы сводились лишь к одному: «Признаёте ли вы, что добровольно и без какого-либо давления надели на себя форму неприятеля?» Так как это была правда, он ничего другого не мог сказать, кроме: «Безусловно, да, действительно, точно так, бесспорно». С другой стороны, он с огорчением отверг предъявленное ему на суде обвинение в том, что он-де предал государя императора.
— Этот человек просто идиот, — сказал генерал майору. — Переодеваться на плотине в русское обмундирование, бог весть кем оставленное, позволить зачислить себя в партию пленных русских — на это способен только идиот.
— Осмелюсь доложить, — откликнулся Швейк, — я сам за собой иногда намечаю, что я слабоумный, особенно к вечеру…
— Цыц, осёл! — прикрикнул на него майор и обратился к генералу с вопросом, что теперь делать со Швейком.
— Пусть его повесят в бригаде, — решил генерал.
Час спустя Швейка под конвоем вели на вокзал, чтобы доставить его в Воялич, в штаб бригады.
В тюрьме Швейк оставил маленькую памятку о себе, выцарапав щепкой на стене в три столбика список всех супов, соусов и закусок, которые он ел до войны. Это было своеобразным протестом против того, что в течение двадцати четырёх часов у него маковой росинки во рту не было.
Одновременно со Швейком в бригаду пошла следующая бумага: «На основании телеграммы № 469 пехотинец Йозеф Швейк, сбежавший из одиннадцатой маршевой роты, передаётся штабу бригады для дальнейшего расследования».
Конвой, состоявший из четырёх человек, представлял собой смесь разных национальностей. Там были поляк, венгр, немец и чех; последнего назначили начальником конвоя: он был в чине ефрейтора. Он чванился перед земляком-арестантом, явно выказывая свою неограниченную власть над ним. Когда Швейк на вокзале попросил разрешения помочиться, ефрейтор очень грубо ответил, что мочиться он будет в бригаде.
— Ладно, — согласился Швейк, — только дайте мне этот приказ в письменной форме, чтобы, когда у меня лопнет мочевой пузырь, все знали, кто был тому виной. На всё есть закон, господин ефрейтор.
Ефрейтор, деревенский мужик, испугался этого мочевого пузыря, и весь конвой торжественно повёл Швейка по вокзалу в отхожее место. Вообще ефрейтор во время пути производил впечатление человека свирепого. Он старался выглядеть таким надутым, будто назавтра должен был получить по меньшей мере звание командующего корпусом.
Когда они сидели в поезде на линии Перемышль — Хыров, Швейк, обращаясь к ефрейтору, сказал:
— Господин ефрейтор, смотрю я на вас и вспоминаю ефрейтора Бозбу, служившего в Тренто. Когда того произвели в ефрейторы, он с первого же дня стал увеличиваться в объёме. У него стали опухать щёки, а брюхо так надулось, что на следующий день даже казённые штаны на нём не застёгивались. Но что хуже всего, у него стали расти уши. Отправили его в лазарет, и полковой врач сказал, что так бывает со всеми ефрейторами. Сперва их всех раздувает, но у некоторых это проходит быстро, а данный больной очень тяжёлый и может лопнуть, так как от звёздочки у него перешло на пупок. Чтобы его спасти, пришлось отрезать звёздочку, и он сразу всё спустил.
С этой минуты Швейк тщетно старался завязать разговор с ефрейтором и по-дружески объяснить ему, отчего говорится, что ефрейтор — это наказание роты.
Ефрейтор ничего не отвечал, только угрюмо пригрозил, что неизвестно, кто из них двоих будет смеяться, когда они прибудут в бригаду. Короче говоря, земляк не оправдал надежд. А когда Швейк спросил, откуда он, тот ответил: «Это не твоё дело».
Швейк на все лады пробовал разговориться с ефрейтором. Рассказал, что его не впервые ведут под конвоем, что он всегда очень хорошо проводил время со всеми конвоирами.
Но ефрейтор продолжал молчать, и Швейк не унимался:
— Мне кажется, господин ефрейтор, вас постигло большое несчастье, раз вы потеряли дар речи. Много знавал я печальных ефрейторов, но такого убитого горем, как вы, господин ефрейтор, простите и не сердитесь на меня, я ещё не встречал. Доверьтесь мне, скажите, что вас так мучает. Может, я помогу вам советом, так как у солдата, которого ведут под конвоем, всегда больше опыта, чем у того, кто его караулит. Или, знаете, господин ефрейтор, расскажите что-нибудь, чтобы скоротать время. Расскажите, например, какие у вас на родине окрестности, есть ли там пруды, а может быть, развалины замка. Вы могли бы сообщить нам также, какое предание связано с этими развалинами.
— Довольно! — крикнул вдруг ефрейтор.
— Вот счастливый человек, — порадовался Швейк, — ведь люди всегда чем-нибудь недовольны.
— В бригаде тебе вправят мозги, я с тобой связываться не стану, — это были последние слова ефрейтора, после чего он погрузился в полное молчание.
Вообще конвойные мало развлекались. Венгр беседовал с немцем особым способом, поскольку по-немецки он знал только «jawohl» 298 и «was?» 299. Когда немец что-нибудь рассказывал, венгр кивал головой и приговаривал «jawohl», а когда умолкал, он говорил «was?», и немец начинал снова. Конвоир-поляк держался аристократом: он ни на кого не обращал внимания и забавлялся тем, что сморкался на пол, очень ловко пользуясь большим пальцем правой руки, потом он задумчиво растирал сопли прикладом ружья, а загаженный приклад благовоспитанно вытирал о свои штаны, неустанно бормоча при этом: «Святая дева».