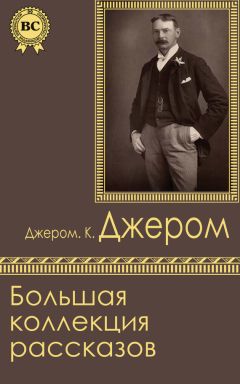– Разве в этом городе не живут? – осведомился я.
– Ах, какие удивительные вопросы! – снова воскликнул мой спутник. – Где же, по-вашему, живут наши граждане, если не в городе?
– Так неужели они живут в этом «городе»? – недоумевал я. – Ведь тут совсем нет жилых домов.
– Таких домов, какие были тысячу лет назад, у нас, разумеется, нет, да мы в них и не нуждаемся, потому что живем в братстве и равенстве, – продолжал старик. – Мы живем вот в этих самых зданиях или, вернее, в блоках зданий. В каждом блоке помещается тысяча человек. В каждом помещении сто постелей. Кроме спален, в каждом блоке имеются строго рассчитанных размеров столовые, ванные, одевальные и кухни.
В семь часов утра, по звуку колокола, все встают и сами убирают свои постели. В семь часов тридцать минут идут в ванные и одевальные, где их моют, бреют, стригут и одевают… то есть позволяют им одеваться самим в одинаковые костюмы. В восемь идут в столовую завтракать. Завтрак состоит из пинты овсяной похлебки и полпинты теплого молока на каждого. Мы строго придерживаемся вегетарианства, приобретшего в течение последних столетий такое огромное количество сторонников, что из них постоянно составляется большинство на выборах.
В час дня колокол сзывает к обеду, состоящему из бобов и вареных плодов; два раза в неделю дается пудинг с вареньем, а по воскресеньям – пирог со сливами. В пять часов, после вторичного умыванья, мы пьем чай, а в десять гасятся огни, и мы ложимся спать.
Будучи равными, мы все живем совершенно одинаково; и между нами нет ни высших, ни низших. Мужчины и женщины имеют одинаковые права, только живут отдельно; мужчины – в одной части города, а женщины – в другой…
– А разве у вас нет семейных? – перебил я.
– Нет, семейный институт уничтожен уже двести лет назад. Семейный уклад нам не подошел, потому что он оказался противообщественным. Главы семейств больше думали о своих женах и детях, чем о государстве. Они трудились главным образом в пользу своих семей, а не для общины, и пеклись несравненно больше о будущности своих детей, чем о судьбах всего человечества.
Узы любви и крови объединяли людей в маленькие тесные группы, вместо того чтобы безраздельно слиться в одну общую. Прежде чем думать об успехах человечества, они думали об успехах своих родных. Прежде чем стараться об увеличении счастья всех своих сограждан, они старались о счастье своих близких по сердцу и крови. Для того чтобы доставить этим близким особенные удобства, они работали сверх силы, подвергали себя лишениям и накапливали лично для себя богатства. Любовь порождала в сердцах людей порок карьеризма. Ради того, чтобы удостоиться улыбки любимой женщины и оставить своим детям в наследство, помимо богатства, громкое имя, люди выбивались из сил, лишь бы подняться над общим уровнем, сделать что-нибудь такое, чем бы можно было привлечь к себе внимание мира и заслужить особенные почести. Каждому хотелось оставить на пыльном пути человечества более глубокий след, чем оставляют другие. Благодаря всему этому основные принципы социалистического строя ежедневно нарушались и подвергались опасности быть совершенно уничтоженными. Каждый дом, в котором жили обособленные, семьи, становился центром пропаганды идеи ценности каждой отдельной личности. Из недр очага поднимались ехидны «товарищества» и «независимости», чтобы отравлять умы людей и жалить общество в самое сердце.
Пошли публичные диспуты о равенстве и о неравенстве. Одни (меньшинство) стояли за первое, другие (большинство) – за второе. Мужья, любившие своих жен, находили их лучшими в мире и с презрительным снисхождением, едва скрывая свои чувства, смотрели на других женщин. Любящие жены, в свою очередь, находили, что их мужья умнее и во всех отношениях лучше других. Матери находили, что лучше их детей и быть не может, то есть каждая мать думала так о своих отпрысках, глядя на чужих как на существ неизмеримо низших. Дети с самого рождения также были пропитаны еретическими убеждениями, что их отцы и матери лучше всех остальных родителей на свете.
Вообще, со всех точек зрения, семья оказывалась нашим врагом. У одного, действительно, была прелестная жена и двое благонравных детей, а его соседу выпала на долю сварливая грымза и одиннадцать озорных бездельников. В чем же тут было равенство?
Кроме того, в одной семье горевали, а в другой – радовались. В одной хижине горько плачут перед маленьким гробиком осиротевшие муж и жена, в другой, рядом, супружеская чета радостно смеется, глядя на то, как гримасничает ребенок, стараясь сунуть себе в рот собственную ногу. Какое это равенство? Может ли общество, в котором существовали подобные противоположности, считаться нормальным?
Такие вопиющие несообразности терпеть больше было нельзя. Мы поняли, что семейная любовь мешала нам на каждом шагу, что именно в ней мы и имели самого сильного врага. Это глупое чувство делало равенство людей невозможным. Оно вело за собой в пестрой смеси радость и горе, мир и тревогу. Оно разрушало привитые нами с таким огромным трудом новые верования людей и подвергало страшной опасности все человечество. Ввиду этого мы нашли нужным уничтожить любовь.
В настоящее время у нас нет семьи, зато нет и семейных тревог; нет любовных историй – нет и любовных страданий; нет любовных восторгов – нет и терзаний ревности; нет поцелуев – нет и слез.
Теперь мы наслаждаемся настоящим равенством, освободившись от всех радостей, зато и от всех горестей семейной жизни, – с самодовольством закончил свою длинную речь мой спутник.
– Да, разумеется, при таких условиях у вас должны быть удивительные тишь и гладь, – заметил я и продолжал: – Но скажите, пожалуйста, – я спрашиваю с чисто научной точки зрения, – какими же путями возмещается у вас естественная убыль в населении? Или вы сделались бессмертными и…
– Ну нет, тайны приобретения бессмертия мы пока еще не открыли, – поспешил заявить мой спутник. – У нас умирают, как и встарь, хотя и в других условиях и пропорциях, а причиненную этим убыль мы возмещаем совершенно просто, тем же способом, каким в ваше время производилось размножение коров, лошадей и прочих домашних животных, в которых вы нуждались. Ежегодно, весною, мы некоторое время разрешаем обоим полам жить вместе, причем необходимое количество рождений устанавливаем заранее. Новорожденные тщательно воспитываются под медицинским руководством и наблюдением. Лишь только явившись на свет, они отбираются от своих родительниц, во избежание пагубной для равенства материнской любви, и помещаются в государственные воспитательные дома, откуда их своевременно отдают в общественные школы, где они пребывают до четырнадцатилетнего возраста. В этом возрасте они подвергаются экспертизе специалистов, по решению которых подготовляются к тому или другому делу, смотря по открытым у них способностям. Двадцати лет их заносят в списки взрослых граждан, причем им дается право голоса. Между мужчинами и женщинами не делается никаких различий; оба пола пользуются совершенно одинаковыми правами.
– Какими же, собственно? – осведомился я.
– Да всеми теми, о каких я сейчас говорил. Чего же вам еще? – с заметным раздражением пробурчал старик.
Я опять замолчал.
Когда мы, по моим расчетам, прошли несколько миль и я ничего не видел, кроме однообразных улиц да «блоков» зданий, так похожих одно на другое, мне вздумалось спросить:
– Разве здесь нет магазинов или, вообще, торговых и ремесленных заведений?
– Нет. На что они нам? – ответил проводник. – Государство кормит и одевает нас, дает нам жилище, оказывает медицинскую помощь, моет, бреет, красит, причесывает нас, а когда помираем – хоронит. Ни в каких торговых и ремесленных заведениях мы не нуждаемся, поэтому их и нет.
Чувствуя некоторую усталость, а главное – жажду, я немного спустя предложил новый вопрос:
– Нельзя ли нам зайти куда-нибудь, где я мог бы напиться? У меня страшно пересохло горло.
– Напиться?!. Что значит «напиться»? – удивился мой спутник. – У нас после обеда дается полпинты какао. Может быть, вы об этом говорите?
Я понял невозможность объяснить ему мою потребность напиться просто воды или чего-нибудь в этом роде, потому и сказал:
– Да-да, какао. Говорю вам: мне очень хочется…
– Ну, а я говорю вам, что какао подается у нас только к обеду! – резко прервал меня старик.
Я снова должен был замолчать и покориться своей участи – ждать обеда.
Мимо нас проходил молодой человек с благообразным лицом, но однорукий. Еще раньше я заметил несколько одноруких и одноногих. Это явление поразило меня, и я спросил об его причине.
– Это тоже объясняется очень просто, – ответил старик. – Когда у кого-нибудь из молодых людей замечается превышение в росте или и силе сверх установленной средней нормы, то у него отнимается нога или рука, чтобы привести его в равновесие с другими. Мы, так сказать, низводим его до нужного уровня, без которого также немыслимо равенство. Природа частенько ошибается в своей мерке; она никак не хочет приучиться работать по той мерке, которая нам нужна, и мы исправляем ее ошибки.