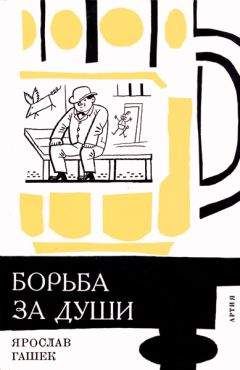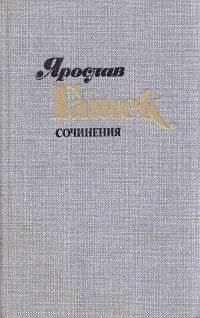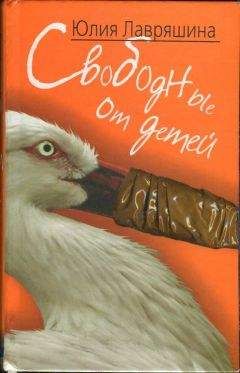Ну, а если Флорентин не поверит, то тогда он приведет своего классного сюда, и тот увидит надпись: «Вацлав Хохолка, 1 „А“, 16/XI». Он начертал ее броскими письменами и продолжал сидеть в этой маленькой, запертой на задвижку кабинке, правда, не совсем спокойно, но уже с известной долей покорности судьбе.
Кто-то пробежал по коридору и, забарабанив в дверь, прокричал:
— Хохолка, давай поторапливайся!
— Не могу, — раздалось в ответ на предложение, переданное от имени классного наставника Флорентина.
И хотя уже четырнадцатый посол бежал обратно в класс, чтобы успеть дописать контрольную, тем не менее Хохолка с важным видом продолжал сидеть дальше, ибо отдавал себе отчет в том, что этим словом «не могу» он восстал против авторитета своего классного наставника. Война была объявлена! Через пять минут четырнадцатый посол во второй раз прошел на рысях к последнему прибежищу Хохолки и, колошматя в дверь, объявил:
— Он говорит, факт, поторапливайся!
— Не могу, — снова ответил Хохолка, но на этот раз уже с гордостью никак не меньшей, чем отвечал Леонид персидским послам в Фермопилах.
В мрачном коридоре гимназии, где гулко отдавался каждый шаг, снова воцарилась тишина. Хохолка считал секунды, минуты и уже мало-помалу приближался к шестистам, что означало примерно около десяти минут с момента, когда его в последний раз посетил гонец господина учителя Флорентина.
Затем раздались тяжелые шаги, и сильные удары в дверь нагнали панический страх на Хохолку.
— Хохолка, вылезайте уже, вы не успеете сделать контрольную!
То был глас классного наставника Флорентина, глас строгий и грозный, глас тирана, жаждущего невинной детской крови.
— Не могу, господин учитель, — прозвучал голос Хохолки, голос дрожащий и робкий.
— Приказываю вам вылезти!
Жестокая схватка разгорелась в душе Хохолки, но мятежный дух одержал верх.
— Не могу! — молвил он теперь уже твердым голосом.
— Итак, вы не хотите вылезти?
— Я не могу!
Пан Флорентин помчался к директору.
— Господин директор, один гимназист по фамилии Хохолка проводит время, отведенное для первой контрольной, в уборной, и отказывается ее покинуть.
Директор встал, взор его загорелся гневом от этакой безнравственности, и оба с серьезным, видом зашагали к убежищу Хохолки.
Первым постучал пан Флорентин:
— Хохолка, опомнитесь, тут господин директор, вылезайте из уборной!
— Послушайте, вылезайте, — подал голос директор, — не упорствуйте, вы об этом пожалеете. Где вы живете?
— Воинская улица, 5, господин директор.
— Мать у него прислуга, — заметил классный наставник.
— Вот видите, Хохолка, — принялся увещевать директор, — ваша мать — прислуга, а вы, вместо того, чтобы доставить своей бедной матери радость хорошей оценкой по латинской контрольной, сидите в уборной и не выходите. Совсем не жалеете свою матушку. Но какие могут быть разговоры, приказываю вам немедленно вылезти и вернуться к своим обязанностям!
— Не могу, еще не могу!
— Не делайте из нас дураков, будете записаны в классный журнал.
— Не могу.
— Вам будет снижен балл по поведению.
— Не могу.
— Будете исключены из гимназии!
— Не могу.
Воистину душа толпы — потемки! У пана учителя засверкали глаза, а господин директор взревел, как разъяренный олень. И оба, объединив усилия, обрушились на дверь уборной. Их натиск был грозен. Хохолка, учуяв стремление своих недругов проникнуть внутрь, перешел в оборону, изо всех сил упираясь в дверь. Однако усилия его были тщетны. Пан Флорентин с господином директором мощно навалились своими телесами на дверь крепости. Дверь поддалась, и они вломились внутрь.
Но крепость оказалась пустой. Чтобы живым не угодить в их руки и не писать контрольной, Хохолка, заслышав треск дверей, стремглав бросился в дыру уборной.
— Так для него даже лучше, — сказал учитель Флорентин. — А то бы он все равно наделал в контрольной массу грубых ошибок.
Но директор, адресуясь в яму, поглотившую бесстрашного защитника крепости, воскликнул:
— Хохолка, шесть часов карцера!
Как Цетличка участвовал в выборах
Проживать в Праге Цетличке было запрещено, а потому этак около одиннадцати утра он стоял на углу Перштына и Фердинандовой улицы и с интересом наблюдал, как какой-то неопытный деревенский парнишка, тащивший тележку, не совладал с ней и толкнул полицейского, следившего за порядком на этом оживленном перекрестке.
Хотя бы уже из одного чувства мести постовой записал в свою книжечку, что ручная тележка, отпихнувшая его на несколько шагов к середине мостовой, не имеет таблички с фамилией владельца, как это предписывают правила уличного движения.
Глядя на происходящее, Цетличка испытывал двоякую радость. Во-первых, как зритель, который после долгого хождения по улицам, наконец, увидел что-то, что заслуживает внимания; а во-вторых, как человек, которого радует, когда его недруга постигнет какая-нибудь неприятность.
А надо сказать, — и Цетличка убеждался в этом уже не раз, затевая скандалы в трактире «У венка» на Овоцном рынке, — что люди этого сорта были к нему расположены весьма мало. Днем все обходилось благополучно. Он ходил по Праге, и никто его не узнавал. Пока не наступали кошмарные ночи, ночи его погибели… Раз он хотел унести чье-то зимнее пальто из погребка «У звездочек», в другой — не расплатившись, покинуть «Калифорнию», затем драки «У венка»… За все это, вместе взятое, плюс нелегальное возвращение в Прагу он обычно схлопатывал месяц тюрьмы.
И все же он любил, матушку Прагу, потому что умел извлекать из нее выгоду.
Нигде не развешано столько юбок в витринах, нигде с такой легкостью не взломаешь железные шторы магазинов, нигде не воруется так вольготно, как в Праге.
— А уж ежели на улице случится самое что ни на есть никчемное, дурацкое происшествие, то нигде не соберется столько глухой и слепой публики, которая только и знает, что проталкиваться вперед. Лишь бы увидеть, что с карниза на шляпу какого-то почтенного господина и впрямь упало воробьиное яичко, желтое пятно от которого на тулье своего котелка этот господин теперь возмущенно показывает толпе.
И тогда давай, шуруй по карманам пальто, потому что мало кто держит кошельки в костюмах, — чтобы все время не расстегиваться, а кроме того не лишить себя удовольствия быть обворованным.
Цетличка штопором ввертывался в скопище людей, в толпу зевак, с наслаждением таращивших глаза на обезьяньи состязания. Это были деревянные заводные обезьяны в витринах игрушечных магазинов. Перед ними толпились большие, хотя зрелище предназначалось для маленьких, которые из-за этих великовозрастных недорослей не могли пробиться вперед, чтобы тоже что-нибудь увидеть.
Цетличка был тут как тут и среди ведущих сражение за места в трамвае.
И повсюду глубоко запускал руку в чужие карманы и уходил незамеченным.
Но при этом, как все воры, полководцы и дипломаты, он был страшно суеверным.
Если завладеть добычей не удавалось с первого захода, Цетличка не повторял атаки. Впрочем, так же поступает и мнимый царь зверей — лев.
Сегодня Цетличке не везло.
По случаю скопления людей вокруг раздавленной собаки он полез в карман к какому-то господину, громогласно осуждавшему быструю езду автомобилей. Цетличка уже наполовину нащупал кошелек, но господин подозрительно заерзал. Цетличка в мгновение ока вытащил руку, но через минуту опять запустил ее в карман разнервничавшегося господина. Однако тому как раз в этот момент вздумалось достать носовой платок, и он был несказанно удивлен, застав в собственном кармане чужую руку, которая, впрочем, сразу исчезла.
— Карманщик! — закричал он что было мочи.
— Иезус-Мария! — по принципу «держи вора» закричал Цетличка. — У меня украли кошелек! С гербовыми марками. Пойду заявлю городовому.
Никем не задерживаемый, Цетличка отошел за угол и плюнул: «Ничего себе начало! Лучше сегодня пальцем о палец не ударю…»
Вдобавок ему еще встретился воз соломы, а уж это куда как дурная примета.
И Цетличка стал фланировать по улицам. Просто так, совершенно случайно, заглянул в распивочную, где наткнулся на одного приятеля из тех, что всегда готовы на жертвы ради друга. Друг объявил, что у него всего капитала — три крейцера, только на стопку хлебной водки с ромом.
Подкрепившись на новые дела, Цетличка снова отправился странствовать по улицам. А потом, вдоволь налюбовавшись полицейским на перекрестке, двинулся по пивным попрошайничать.
Но поскольку шел всего двенадцатый час дня, посетителей еще было мало. Да и те, будучи трезвыми, ничего ему не дали. Обойдя таким образом с полдюжины трактиров, Цетличка, наконец, попал в один, где было очень шумно.