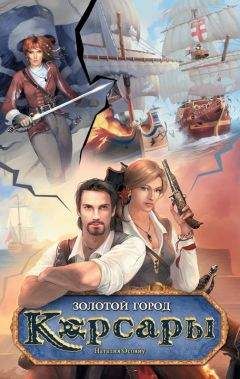— Н-да, — сказала моя спутница. — Завтра понедельник. Опять в контору. Опять за миллион сиарби.
И неожиданно добавила:
— Как собака… тррр…
— Что с вами?
— Нет, ничего. Это на меня кассирша подействовала. Н-да. А она завтра обязательно уйдет. У нее вид решительный. Интересно, на какое амплуа? И интересно, что будет делать одинокий хозяин? Вертеть ручку кассы ногой?
Дома все было по-прежнему. Бывшая учительница (теперь кельнерша) собиралась на работу, бывший инженер (теперь шофер) с работы возвращался, а за стеной Машенька говорила своему мужу:
— Ты же в детстве играл на рояли!
— Ну?
— Ну, так сын Марьи Ивановны говорил, что у них пианист заболел. Попробуй! Им все равно. Им лишь бы как-нибудь. Они-же по большей части пьяные…
— Но, Машенька… но как же я…
— Ах, оставьте меня, оставьте!..
…По дороге встретили девушку в красных туфлях под руку с военным. Так как таких девушек, таких туфель и таких военных по дороге попадалось великое множество, то внимания на это никто не обратил и все продолжали громко говорить о дороговизне, о том, какие теперь курить сигареты и как вообще жить. Но когда встретили хорошенькую девушку под руку не с военным, а с каким-то бедно одетым штатским, то все очень удивились, несколько раз оглянулись и сказали:
— Странно! Муж он ей, что ли? И о чем она думает? Столько в городе американцев!..
Потом встретили еще одну девушку, которая несла в руках маленький саквояжик и быстро шагала на стоптанных каблуках, и кто-то сказал, что она маникюрша, а все остальные удивлялись и говорили:
— Странно! По маникюрам бегает! И зачем ей это? Столько в городе американцев…
В зале кинематографа впереди сидела девушка с военным, и рядом тоже, и сзади тоже, а билетерша у дверей проверяла билеты, и билетерша была совсем молоденькая, и все посмотрели друг на друга и взволнованно зашептали:
— Странно! Что она здесь делает? Платят-то, верно, гроши. Столько в городе…
Но тут потушили свет, и все полтора часа молчали. Картина была довоенная, американская. Кларк Гэбл на глазах у зрителей безумно богател на нефти; когда окончательно разбогател и построил новый дом, то начал игнорировать жену и танцевать в ночных клубах с кем-то посторонним. После чего, опять-таки на глазах у зрителей, он разорился, бедность его отрезвила, и он стал примерным мужем. Затем он опять разбогател и стал с новой силой изменять жене с девушкой, которая только и делала, что, полулежа на кушетке, ворковала с ним по телефону белого цвета. Однако, продолжалось это недолго. Он снова разорился и снова вернулся к жене. Жена улыбалась сквозь слезы и обнимала его, и на этом картина закончилась. И никому не было понятно, почему так преждевременно радуется жена, ибо вопрос не решен: муж в любой момент может снова разбогатеть и все начнется сначала. Каков был смысл этой картины — тоже оставалось непонятным.
В публике мелькали военные формы и красные туфли, и кто-то рядом взволнованно говорил, что Сидоренко устроился сторожем в годаун и весь день ничего не делает, получая за это 75 голд. А кто-то отвечал, что Сидоренко это что, а вот Безносюк получает 135, а кто-то перебил и сказал — это тоже ерунда, а вы знаете, сколько Веснушкины зарабатывают на своем баре?
Потом пришли домой и пили чай, и один из мужчин сказал:
— Хорошо бы водчонки…
А ему ответили:
— Вы знаете, сколько сегодня стоит бутылка?
И жена ядовито заметила:
— Вот когда будешь зарабатывать как Безносюк, тогда пожалуйста!
Потом все долго молчали, о чем-то думали и, наконец, заговорили.
Говорили о Лидочке.
— Ну как вы ее не помните, служила в банке машинисткой и еще все умные книги читала!
— Ах, это такая маленькая, курносенькая?
— Ну вот именно, именно! Цитировала еще этого… ну как его… немца-то с длинным именем?
— Канта?
— Пожалуйста, не перебивай! Какое у Канта длинное имя? Этого… ну, еще недавно помнила!..
— Шопенгауэра?
— Вот, вот! Так бы сразу и сказал! В общем, придет, бывало, всех презирает и поехала: «Шопенгауэр, мол, сказал, что жизнь нам только снится…»
— Послушай, ты говори или о Лидочке или о немецкой философии…
— Не сбивай меня. Еще она всегда цитировала ихнего этого… сверхчеловека… Ницше. Смотрю, вчера — идет, серой щелкает.
— Кто?
— Как кто? Лидочка, конечно! Лидочка, говорю, как ваш банк? Что, говорит, я дура за какие-то полтора миллиона… Уже месяц как в баре работаю. Я говорю: «Лидочка, с вашей интеллигентностью, могли бы секретаршей устроиться». — Ах, говорит, разве можно! Американцы всегда ждут, что секретарша будет заодно и любовницей…
— А в баре от нее ждут, что она заодно будет и стенографисткой?
— Опять ты перебиваешь!..
Еще говорили о супругах Веснушкиных. Муж уволился с поста бухгалтера, получил за три месяца, кое- что продал и открыл бар.
— Кафе-ресторан!
— Милая, вы наивны! Самый настоящий распроматросский бар!
— Вы с ума сошли! Веснушкины! Да никогда в жизни.
— Ну вот, вы мне будете говорить! Я-то уж знаю…
— Да, но мадам Веснушкина… Она всегда в лучшем обществе… в бридж играла…
— Какое там лучшее общество! Вы хотите сказать, что она лезла в лучшее общество, да только никогда ничего не получалось. Ну, в общем, бриджи свои бросила, «лучшее общество» тоже, стоит за стойкой, с матросами на высокие темы разговаривает.
— Катя, не говори, о чем не знаешь!
— Я не знаю? Из достовернейших источников знаю! Сам Веснушкин пиво открывает, за пьяными следит. Даже дедушку приспособили. Помните его? Сидит сейчас в углу, выручку считает.
— Ах, все-таки неприятно! Интеллигентная семья. Люди такие приличные…
— Ну, милая, что же делать? Жить-то надо! А интеллигентность у них как рукой сняло. Вы бы поглядели, как Соня Веснушкина серой щелкает и матросов осаживает. Откуда что берется!
— Катя, но ведь ты же этого не видела…
— Не видела, но все говорят! Накопят денег, опять начнут в бриджи играть, в «лучшее общество» лезть. Это только мы с тобой, идиоты, так не умеем!..
Засиделись поздно. Говорили все о том же. О Лидочках, о Безносюках-счастливчиках, о заведующей дамской уборной в каком-то театре (— Ну помните ее? Такая рыжая, страшная, лет под пятьдесят!), которая сейчас разъезжает на педикэбах. (— И чем уж она-то зарабатывает, милая, ну просто ума не приложу!)
Главное же, говорили о деньгах…
После ухода гостей хозяйка дома, постилая на ночь постель, задумчиво проговорила:
— Конечно, Петр Николаевич очень милый, но какой-то… Без инициативы. Ну я не говорю, что он должен, как Веснушкин, бар открыть, но все же… Женичку жалко. Ей, конечно, не тридцать, как она говорит, а все тридцать пять, но молодая все-таки. Губит она себя с ним. Столько в городе…
Не докончив фразы, вздохнула и пошла в ванную. Умываться.
Потушили свет, но сон долго не шел. Она думала о Безносюке, который получает 135 голд. И за что! Дурак дураком! И о том, сколько это будет на сиарби, и о том, как можно было бы жить, получая эти деньги… Еще она думала о завтрашнем базаре и о ценах, и снова ее мысли возвращались к «голдам» и она думала, что, в конце концов, можно было бы жить и на 75, которые получает некто, ничего не делающий около годауна…
Он тоже не мог заснуть. Он вспоминал авеню Эдуард VII, залитую осенним солнцем, и толпу людей около Уилок Билдинг[22], у этой «стены плача», как ее кто-то окрестил. Он думал, что без протекции ничего не выйдет и завтра надо опять забежать к Коньковичу, который обещал помочь и которого он сегодня не застал…
Еще он думал о том, что ему уже сорок четыре года, а жизнь не устроена, и надо снова бегать и кого-то о чем-то просить, как он бегал и просил уже столько раз. И вдруг ему пришло в голову, что надоело вечно служить у иностранцев. У англичан. У французов. У датчан и у «разных прочих шведов». «Маничка вышла замуж за датчанина. Очень влиятельный. Может помочь устроиться».
Надоело, — думал он, — надоело, надоело!.. Завтра придут сюда готтентоты, зашуршат долларами, и мы кинемся к ним, как безумные. Все это чужое, временное… Временное? Да, но затянувшееся на всю жизнь… Проклятый беженский удел. Проклятая жизнь…
Но он отбросил эти мысли и снова стал думать о Коньковиче, — который обещал помочь, о том, что завтра надо приготовить все бумаги… и снова видел перед собой залитую солнцем улицу и толпу людей, терпеливо ждущую…
И долго еще не спал, глядя в темноту широко открытыми глазами…
В середине декабря русские ходили и спрашивали друг друга: