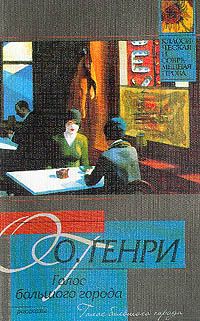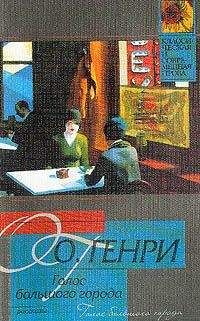Дрожь Айди мгновенно улеглась. На лицо вернулась краска. Он выпрямил спину, выдвинул челюсть вперед на полдюйма, в глазах его появился блеск. Одной рукой он сдвинул на затылок свою видавшую виды шляпу, другую энергичным, вызывающим жестом выбросил вперед. Набрав в легкие воздуха, он насмешливо расхохотался.
— Передайте старику Полдингу, чтобы он отправлялся ко всем чертям, — проговорил он громко и отчетливо, повернулся и вышел из конторы твердым, уверенным шагом.
Адвокат Мид с улыбкой повернулся к Вэленсу.
— Я рад, что вы заглянули ко мне, — сказал он приветливо. — Ваш дядя желает, чтобы вы немедленно вернулись домой. Он примирился с теми обстоятельствами, которые послужили причиной его необдуманного шага, и желает заверить вас, что все будет так, как было, и… Адамс! — позвал он клерка. — Принесите стакан воды — быстрее! Мистеру Вэленсу дурно.
Перевод А. Старцева
Есть у меня два-три знакомых редактора, к которым я, если вздумаю, могу хоть сейчас зайти поболтать на литературные темы. Раньше бывало, что они вызывали меня для беседы на литературные темы. Это не то же самое. Так вот, они мне рассказывали, что немалая часть рукописей, приходящих в редакцию, имеет приписку от автора, где он клянется, что его сочинение «взято из жизни». Дальнейшая судьба такой рукописи зависит лишь от того, приложена к ней или нет почтовая марка. Если приложена, рукопись уходит назад к сочинителю. Нет — она летит в угол, где ее уже ждет пара старых калош, опрокинутая статуэтка крылатой Победы или груда старых журналов, на обложке одного из которых изображен сам редактор, увлеченно читающий в подлиннике «Le Petit Journal»[11] (держа его вверх ногами — это видно по иллюстрациям). Легендарная редакционная корзина для отвергнутых рукописей на самом деле не существует.
Итак, факты жизни — в презрении. Пройдет время, наука, природа, истина вотрутся в доверие к искусству. С фактами станут считаться. Злодеев потянут к ответу вместо того, чтобы выбирать их в правление акционерного общества. Но пока что вымысел живет в разводе с действительностью, платит ей алименты и выступает опекуном репортерских отчетов.
Вся эта преамбула здесь к тому, что я хочу рассказать вам историю «из жизни». Как таковая, она будет предельно простой. Все прилагательные я постараюсь заменить на предлоги и, если вы уловите в ней хоть какое-либо изящество слога, знайте, это вина наборщика. Я предложу вам рассказ из литературного быта большого города, и он будет полезен каждому в Госпорте, штат Индиана (и на двадцать пять миль в окружности), у кого на столе лежит готовая рукопись, начинающаяся примерно такими словами: «В старой ратуше еще слышались клики восторженных избирателей, но Гарвуд, тепло пожав руки своим верным друзьям и помощникам, уже пробивал путь в толпе, поспешая к судье Кресвеллу, где его ждала Айда».
Петтит прибыл из Алабамы, чтобы посвятить жизнь изящной словесности. В южных газетах уже появились восемь его рассказов с примечанием редакции, разъяснявшим, что автор — «сын нашего доблестного майора Петтингила Петтита, героя сражения при Лукаут-Маунтен и бывшего окружного судьи».
Петтит был молодым человеком несколько сурового вида, из застенчивости скрывавшим свою большую начитанность. Мы с ним были друзьями. Отец его держал лавку в городке, называвшемся Хосиа. Петтит вырос в хосийских сосновых лесах и ракитниках. Он привез в саквояже два рукописных романа о похождениях в Пикардии в 1329 году некоего Гастона Лабуле, виконта де Монрепо. Не станем его осуждать, это может случиться с каждым. А потом мы вдруг пишем сногсшибательный очерк о малютке-газетчике и его колченогой собаке, и наш очерк печатают; ну, а потом… покупаем большой чемодан и ходим от дома к дому, предлагая усовершенствованные газовые горелки по доллару и двадцать пять центов за штуку: «Необходимо каждой хозяйке!»
Я привел Петтита в красный кирпичный дом, который в дальнейшем, когда мы со всем этим покончили, был увековечен в статье «Литературные реликвии старого Нью-Йорка». Петтит снял комнату, — лавка в Хосии пока что брала на себя его содержание. Я повел его по Нью-Йорку, и он не сказал мне ни разу, что авеню Генерала Ли у них в Хосии значительно шире Бродвея. Это меня обнадежило, и я решился на последний экзамен.
— А что, если тебе написать о Нью-Йорке, — сказал я ему. — Скажем, «Вид с Бруклинского моста». Знаешь, взглянуть свежим глазом…
— Постарайся не быть идиотом, — ответил мне Петтит, — пойдем выпьем пива. Город мне в общем понравился.
Мы с ним обнаружили подлинное царство богемы и были в большом восторге. Ежедневно, утром и вечером, мы направлялись в один из этих дворцов из кафеля и стекла, где протекал грандиозный, грохочущий эпос жизни. Даже Валгалла, я думаю, не была столь шумной и славной. Классический мрамор столов, снежно-белые свитки салфеток в облитой светом витрине, безошибочно вагнеровские созвучия в перестуке тарелок и чашек, стаккато ножей и вилок, пронзительный речитатив облаченных в белые фартуки дев-официанток у стоек, напоминавших анатомический стол, и лейтмотив неумолчных кассовых аппаратов — все сливалось в гигантский ликующий, возвышающий душу синтез искусств, парад героической, исполненной символов жизни. И порция бобов стоила всего десять центов. Мы изумлялись, что наши собратья, служители муз, продолжают вкушать свои трапезы за унылыми столиками в почитающихся артистическими жалких кухмистерских. И содрогались при мысли, что они могут узнать про наш храм и осквернить его своим посещением.
Петтит писал рассказ за рассказом, но редакторы их браковали. Он писал про любовь, чего избегаю я, ибо твердо уверен, что это давно нам известное и популярное чувство должно обсуждаться лишь в узком кругу (на приеме у психиатра или в беседе с цветочницей), но отнюдь не на страницах общедоступных журналов. А редакторы утверждают, что женская часть их подписчиков хочет читать про любовь.
Позволю себе заметить, что это неверно. Женщины не читают в журналах любовных историй. Они ищут рассказы, где герои режутся в покер, и еще изучают рецепты примочек из огуречного сока. Рассказы с любовным сюжетом читают толстяки коммивояжеры и десятилетние девочки. Я не хулю здесь редакторов. В большинстве своем это прекрасные люди, но все же не более чем люди — каждый из них ограничен собственным вкусом и навыками. Я знавал двух сотрудников в журнальной редакции, схожих, как два близнеца. Но один был привержен к романам Флобера, другой — любил джин.
Когда Петтит возвращался домой с отвергнутыми рукописями, мы садились читать их вдвоем, чтобы лучше понять, чем недоволен редактор Это были совсем недурные рассказы, гладко написанные и кончавшиеся, как полагается, на последней странице. События в них развивались логично и в должной последовательности. Чего не хватало в них, это живой жизни. Представьте на миг, что вы заказали устрицы и вам подали блюдо симметрично разложенных раковин, но — пустых, без их сочных, соблазнительных обитателей. Не колеблясь я дал понять автору, что надо солиднее знать предмет, о котором пишешь.
— На прошлой неделе ты продал рассказ, — сказал Петтит, — где описана стычка на приисках в Аризоне. Твой герой достает из кармана сорокапятикалиберный кольт и убивает одного за другим семь бандитов. Но кольты такого калибра — шестизарядные.
— Ты путаешь разные вещи, — сказал я. — Аризона далеко от Нью-Йорка. Я могу застрелить человека при помощи лассо и ускакать от погони на паре ковбойских штанов, и никто ничего не заметит — разве какой крохобор настрочит на меня кляузу. Ты в иной ситуации. Про любовь здесь, в Нью-Йорке, знают ничуть не меньше, чем где-нибудь в Миннесоте в пору ранней посадки картофеля. Допускаю, что у ньюйоркцев нет той непосредственности — читают не только Байрона, но и биржевой бюллетень (раз уж книжки пошли на Б!). В общем, так или иначе, но этот недуг широко здесь известен. Ты можешь уверить редактора, что ковбой садится в седло, ухватившись за правое стремя, но с любовью, хочешь не хочешь, а должен быть аккуратен. Советую — лично влюбиться, познакомиться с делом практически.
Петтит влюбился. Я так и не знаю, принял он к сведению мой совет или пал жертвой случая.
Он повстречал эту девушку где-то на вечеринке: дерзкую, яркую, золотоволосую, озирающую вас с добродушным презрением нью-йоркскую девушку.
Так вот (зрелый повествовательный стиль разрешает нам время от времени так начинать нашу фразу), Петтит мгновенно рухнул. Познал на собственной шкуре все сомнения, сердечные муки, тоску ожидания, о которых столь бледно писал.
Шейлока клянут за фунт мяса! Амур взыскал с Петтита не менее двадцати пяти фунтов. Так кто же из них ростовщик?
Как-то вечером Петтит явился ко мне сам не свой от восторга. Тощий, измученный, но сам не свой от восторга. Она подарила ему на память цветок.