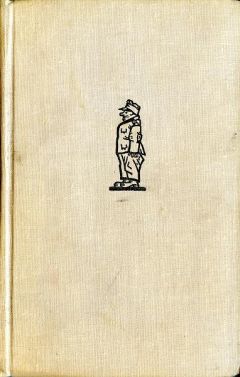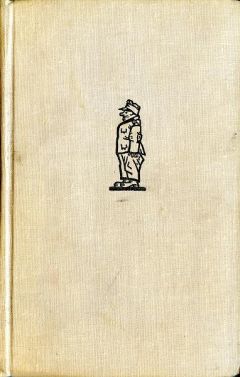Далее капитан Сагнер залепетал что-то невнятное: что, мол, русские недалеко и он ждет не дождется приказа об отступлении.
Наступила тишина. Никто не произносил ни слова, словно боясь каким-нибудь неожиданным замечанием вызвать из-под земли ряды вооруженных штыками неприятелей.
Атмосфера была напряженная. В конце концов капитан Сагнер заявил, что в данной обстановке остается только одно: выставить Vorhut, Nachhut und Seitenhut [107].
После этого он распустил их. Но через мгновенье созвал опять в разбитом здании вокзала.
— Господа, — торжественно объявил он. — Я забыл еще одно: грянем троекратное «ура" в честь государя императора!
Раздалось: «Hoch, hoch, hoch!» [108], и все разошлись по своим ротам. Через час прибыл фельдкурат [109] 73-го пехотного полка — здоровый, упитанный, кипящий жизненными силами; он все время острил и вообще вел себя так, словно пришел в варьете, где танцуют нескромные танцы. Собрали полевой алтарь, причем фельдкурат все время ругал помощников свиньями. Затем он держал речь, конечно по-немецки, в которой объяснил, как это прекрасно, возвышенно — дать себя убить за его величество императора Франца-Иосифа I.
В заключение он дал им отпущение всех грехов, и оркестр заиграл «Спаси, господи, люди твоя». А впереди горели деревни, гремела канонада, и всюду вокруг стояли маленькие деревянные кресты, на которых ветерок там и сям шевелил висящую австрийскую фуражку.
Тут прибежали посланные командиром маршевого батальона ординарцы, и раздалась команда выступать.
Канонада гремела все ближе. На небосклоне то и дело появлялись облачка от разрывов шрапнели, гул орудий слышался все явственней, а бравый солдат Швейк спокойно шел за хозяином, с одним только чемоданом в руках, так как остальные забыл в поезде.
Дауэрлинг этого даже не заметил; он был в страшном волнении, дрожал всем телом. Иногда кричал на своих солдат:
— Марш вперед, собаки, свиньи!
И все грозил револьвером одному старому ополченцу-подагрику, к тому же страдавшему грыжей, что было с его стороны вопиющей провокацией, за которую он был признан Kriegesdiensttauglich ohne Verbrechen [110].
Это был немец, крестьянин из Крумлова, неспособный понять, какая связь между его грыжей и убийством в Сараеве, о чем ему долбили в армии.
Он все время отставал, и Дауэрлинг безжалостно погонял его, грозя застрелить на месте. Кончилось тем, что подагрик остался лежать на дороге, а Дауэрлинг на прощанье пнул его ногой, промолвив:
— Du Schwein, du Elende! [111]
Теперь гремело уже по всему фронту — не только впереди, но и со всех сторон. Справа на равнине поднялась пыль над дорогой: это двинулись вперед, на помощь передовым частям, колонны резервов.
Кадет Биглер, бледный, подошел к Дауэрлингу.
— Вызывай резервы, — тихо сказал он. — Без этого не обойтись.
— Осмелюсь доложить, нас разобьют в пух и прах, — заметил Швейк, шагая сзади.
— Не бреши, болван! — прикрикнул на него Дауэрлинг. — Тебе лишь бы поскорей отделаться, плюхнуться где-нибудь в поле застреленным, чтобы ничего не делать, только землю рылом копать, как свинья. Но не выйдет! Дай только укроемся: я тебе покажу, где раки зимуют.
Когда они достигли вершины холма, пришел приказ: «Einzeln abfallen» [112].
— Вот оно самое! — промолвил бравый солдат Швейк.
И в самом деле это было оно самое. Земля была здесь разрыта, и в ней проведены траншеи, ведущие куда-то в сторону леса, где тянулась лентой груда вынутой земли, говорившая о том, что там окопы.
В воздухе что-то свистело и жужжало. Облачка от разрывов шрапнели, казалось, плыли прямо над головой, а вдали уже слышны были ружейная стрельба и «дрр-дрр-дрр» пулеметов.
— По нас чешут, — промолвил Швейк.
— Заткнись.
Было видно, как впереди в одной точке окопов вдруг взметнулся дымный столб, и сейчас же послышался ясный, отчетливый взрыв гранаты.
— Видно, совсем хотят нас прихлопнуть, — заметил Швейк.
Дауэрлинг печально посмотрел на него и полез в ход сообщения.
Высоко над ними свистели пули; Дауэрлинг шел, наклонив голову и согнувшись в три погибели, так что порой казалось, будто он ползет на четвереньках, хотя над ним возвышалась стена вышиной в метр.
— Прежде всего осторожность, — лепетал он. — Наступил конец света.
Словно в подтверждение, совсем рядом раздался оглушительный взрыв гранат, и со стен прохода посыпались куски глины.
— Ich bin verloren, — повторил Дауэрлинг, как в тот раз и тем же самым плаксивым голосом. — Mein Gott, ich bin verloren [113].
— Осмелюсь доложить, из нас лапшу сделают, — ободрил его Швейк, шагая позади.
Тут ход сообщения кончился, и они вошли в окоп, где метался как угорелый командир роты поручик Лукас [114]. Вокруг кишели солдаты, словно муравьи заливаемого водой или развороченного палкой муравейника.
Солдаты были бледны, а офицеры еще того бледней. Было совершенно ясно, что мужественная австрийская душа ушла у всех в пятки. В каждом жесте решительно сквозила чистая, беспримесная трусость. Ни в ком не заметно было ни малейших признаков воинственности. Поминутно кто-нибудь из офицеров, услышав вдали взрыв, кричал:
— Decken, alle decken [115]!
При этом они ругали на чем свет стоит рядовых, которые тоже вели себя отнюдь не воинственно, а скорей напоминали каждый в отдельности пойманного на дереве мальчишку, которого сторож кладет себе на колено, чтобы высечь.
Только бравый солдат Швейк был совершенно спокоен и подремывал, набив себе полон рот шоколадом, который он успел вытащить из Дауэрлингова чемодана, пока они шли по траншее.
Батальон находился теперь на переднем крае, где должен был сменить пруссаков, которые уже двое суток ничего не ели и тотчас стали клянчить у ополченцев хлеба, хотя у них его тоже не было. Под выкрики «Чертовы австрийцы!» маршевый батальон, рота за ротой, занял назначенные места. Потом пришел приказ — всем по амбразурам, и офицеры погнали их, как скот, к узким отверстиям в бруствере, отсчитывая рядовых, отдавая распоряжения унтер-офицерам, а сами, пользуясь общей суматохой, отходили во вторую линию окопов, в недоступные для разрывов гранат укрытия.
Дауэрлинг скрылся в какой-то подземной норе за окопами. При свете зажженной Швейком свечи он лег на деревянный лежак и залился слезами. Плакал, сам не зная почему, так горько, как плачет заблудившийся в лесу или упавший в грязь ребенок.
— Осмелюсь доложить, — промолвил Швейк, — получено распоряжение от господина ротного.
Дауэрлинг встал, утер слезы рукавом и прочел приказ:
«Немедленно выступить с двенадцатью солдатами для офицерского патрулирования за проволочными заграждениями в секторе 278. Поручик Лукаш». Лукас был так растерян, что даже подписался правильно, по-чешски: «Лукаш», чего не делал уже много лет, с тех самых пор как поступил в кадетский корпус.
Дауэрлинг больше уж и дрожать не мог. Он смотрел на приказ, на слова «офицерский патруль» с изумлением, словно глазам своим не веря. Но ничего другого написано там не было.
Он велел Швейку подать карту, отыскал на ней сектор 278. Найдя, подчеркнул синим карандашом, прицепил к поясу кобуру с револьвером, вздохнул, в последний раз окинул нору печальным взором и приказал Швейку следовать за ним.
Швейк взял чемодан и пошел. Придя в свой взвод, Дауэрлинг спросил, нет ли охотников пойти с ним в дозор. Никто не шевельнулся. Он обозвал их трусами и стал выбирать. Тихо вышли из окопов. Впереди — лесок, где засели стреляющие. Дауэрлинг велел идти лощиной и сам поплелся ни жив ни мертв. Швейк, идя сзади, вытаскивал из чемодана шоколад и грыз его уже без всякого стеснения. Неужто нельзя позволить себе такое скромное удовольствие, идя на смерть?
Из австрийских окопов за спиной у них вели залповый огонь по лесочку, откуда отвечали адской пальбой. Стояла такая трескотня, что Дауэрлинг решил действовать, не теряя времени.
— Швейк! — сказал он. — Пойди передай им, чтобы шли тем леском налево, к той вон чаще, и возвращайся!
После того как Швейк вернулся с сообщением, что все в порядке, Дауэрлинг помедлил еще минутку, словно о чем-то раздумывая.
— Послушай, Швейк, — сказал он. — Давай-ка залезем сюда.
И он показал на вымоину в лощине, похожую на овраг.
— Если хочешь знать, Швейк, скотина ты этакая, ведь я тебя люблю. Окажи, мне услугу. Вот тебе револьвер, выстрели мне в плечо: я хочу домой. Понимаешь: Кираль-Хида, генеральская собака, позиции, офицерский патруль — все это так быстро… Выстрели мне в плечо. Меня найдут и…
— Осмелюсь доложить, понимаю, господин прапорщик… А потом, чтоб меня повесили, да?
Дауэрлинг вздохнул.
— Это ты верно. Потом тебе на самом деле придется либо дать себя повесить, либо бежать. Ты правильно поступишь, если убежишь. Позиция недалеко, а с русскими как-нибудь объяснишься.