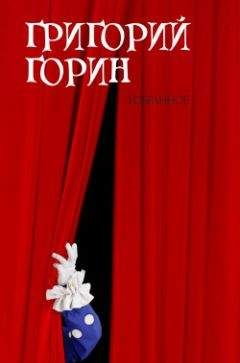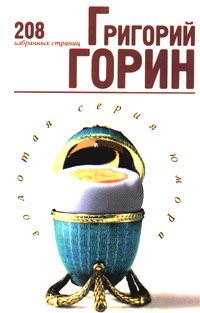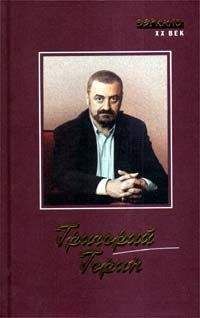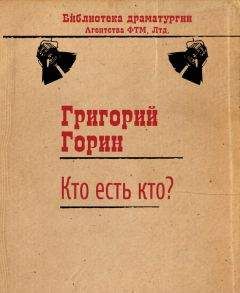Гриша пришел в театр за день до того, что случилось. Хорошо выглядел, но был чем-то озабочен. Мы чуть-чуть поговорили, что-то про «Филумену», что выпустят «Филумену» и он на очереди. Сказал, как он в меня верит, как любит. А я – как я ему верю. Я поняла, что это не просто лишь бы что-то сказать, а как сказал – так и есть. Я не очень-то верю словам, но Гриша всегда говорил то, что думал на самом деле. Как у Окуджавы: «Как он дышит, так и пишет, не стараясь угодить». Я поговорила с ним как с родным. Очень дорогой мне человек.
Александр Ширвиндт
Запоздалое покаяние
Чем добрее человек, тем безнаказаннее доступ к нему. А если он при этом еще и «архиталантлив», то становится липкой бумагой для сонмища «мух», мощно и бессмысленно жужжащих вокруг, кичась назойливой бездарностью. Прилипну! Прилипну! Погибну, но прилипну. Их же никто к этой манкой ленте не пришпиливает, как в садистическом набоковском наслаждении убийства и без того недолгожительных бабочек. Они не случайно врезаются в эту ленту, летя на космических скоростях к звездам или, на худой конец, на кухню. Нет. Они добровольно и вожделенно приникают к медообразной поверхности, приникают, «влипают» и, вкусив глоток чужого дарования, погибают.
Сонмища «мух» вились около Гришиного таланта, обаяния, доброты, жалости к человечкам. К сожалению, иногда пользовались огромностью его души и мы, его друзья.
Я, пишущий эти строки, не зная поименно состава авторов данной книги, со всей гражданской ответственностью могу предположить, что каждый и любой, любой и каждый из авторов должен найти в себе запоздалое мужество и попросить у Гриши прощения.
Прощения за то, что использовали его талант в корыстных целях.
Прощения за то, что пользовались его добротой из меркантильных соображений.
Прощения за то, что отнимали у читателей, зрителей и потомков его драгоценное время, растаскивая его по бесконечным юбилеям, «жюрям», презентациям и прочаям…
Прощения за то, что очень редко по отношению к Грише употреблялось восклицание – «НА!» вместо бесконечной мольбы – «ДАЙ!».
Разослать бы всем анкеты, чтобы каждый, персонально, как в налоговой декларации (только на этот раз честно), написал список Гришиных благодеяний. Монументальный труд мерещится.
В день Гришиных похорон на служебном входе нашего театра мне протянули скромный конвертик с анонимным стихотворением – паника несколько отступила.
Песенка про волшебника
Жил в городе нашем
Волшебник один.
Как все, он грустил,
Веселился, шутил.
Он жил в нашем городе славном,
Казался совсем он не главным.
Любил он принцессу,
Ей сказки дарил,
С друзьями смеялся
И трубку курил.
Он жил в нашем городе славном.
Но это казалось не главным.
Он верил в свои
Необычные сны.
И слышал, как нежно
Шептались цветы.
И нам, в нашем городе славном,
Всегда говорил он о главном.
Однажды шагнул он
В свой сказочный мир.
Шагнул он в тот мир,
А вернуться забыл.
И мы, в нашем городе славном,
Вдруг поняли, что было главным.
Мы снова заглянем
В твой сказочный мир.
Эй, сказочник, здравствуй,
Ты нас не забыл?
Мы все в нашем городе славном
Мечтать стали только о главном.
Что-то стало совсем одиноко.
Так все безумно и бездумно ждали прихода нового века – какой-никакой, а аттракцион биографии – жил, мол, в двух веках. Родился в середине прошлого века. Как приятно произносить: «Помню, где-то в конце прошлого века» – и т. д. А на поверку век этот прошлый оказался бессмысленно жестоким и беспринципным.
Родину не выбирают! Родителей не выбирают! Серьезно выбирают только президентов и друзей. Первых – от безвыходности, вторых – по наитию.
Пишу о Грише и все время думаю: кому и зачем я эти строки адресую? Потомкам? Уверен, что им нужнее будет классик Г. Горин, а не вздохи современников.
Демонстрировать на бумаге стриптиз искренности для посторонних я не потяну – слишком лично, тонко, долго и непросто сложилась наша с Гришей биография взаимоотношений.
Спрятаться за привычную маску иронического цинизма не хватает духу.
Любочка Горина сказала: «Возьми Гришины пиджаки и трубки – пусть будут на тебе…» Я сначала испугался, потом подумал и взял. И вот хожу я в Гришином пиджаке, пыхчу его трубкой, и мне тепло и уютно.
Олег Янковский
Это счастье, что у «Ленкома» был свой драматург
С Григорием Гориным мы познакомились в 1974 году, когда Марк Захаров, возглавив «Ленком», пригласил меня в театр. Новый режиссер начал свою работу со спектакля «Автоград ХХI», который стал дебютом одновременно для троих участников события: это была первая пьеса Юрия Визбора, первая постановка Захарова в «Ленкоме» и моя первая роль в Москве. Буквально через неделю или две после сдачи «Автограда» начались репетиции «Тиля». Читки, как обычно принято, не было, но появился высокий, статный человек, молодой писатель Григорий Горин, довольно известный в творческом мире своими юмористическими рассказами и первыми пьесами. Перед этим вышла замечательная картина Абдрашитова по его рассказу «Остановите Потапова!».
Надо сказать, что в то время Андрей Миронов, Александр Ширвиндт, Григорий Горин, Марк Захаров, дружившие с молодых лет, являлись неформальным центром, который заметно влиял на театральную среду. Поскольку я с периферии, то для меня эти имена казались недосягаемыми, я тогда еще не был вхож в их круг. Но я понимал, что эта группа друзей, разбросанных по разным театрам, представляла собой активное ядро, резонанс от которого распространялся по всей театральной Москве, вообще по интеллигенции. Миронов делал интересные роли в Театре сатиры, Горин писал пьесы, Марк Захаров ставил, Ширвиндт много играл и считался лидером движения лучших театральных капустников в стране в их самый золотой час. Бурная деятельность их круга расходилась волнами и притягивала обратной связью к этим людям. И конечно, большое дело, Богом отмеченное, что сюда, в «Ленком», пришел Григорий Горин. Не по достигнутым победам – он тогда только создавал «Тиля», – а именно по внутренней энергетике.
Я не участвовал в «Тиле», но поскольку семью еще не перевез и жил один (а находиться в шестиметровой комнатке общежития было противно), то в свободное время приходил на репетиции. Снимался я тогда очень много, в пяти-шести картинах в год. У меня начался замечательный период работы с Тарковским, Авербахом, поэтому я хорошей завистью завидовал Караченцову, другим актерам, занятым в спектакле. Мне нравилось приходить в театр и наблюдать за происходящим. Григорий периодически куда-то убегал и возвращался уже с новыми страничками к столику Марка Захарова. Бегал он, как я потом понял, к машинистке, чтоб напечатать следующие сцены. А я сидел в конце зрительного зала, еще не имея права приближаться близко, и следил за развитием этой картины.
И вот спустя некоторое время Москва стала свидетелем мощного творческого взрыва – по свободе мышления, постановочным возможностям, режиссуре, актерскому мастерству, но, главное, по идее, которая в те годы была особенно необходима. Персонаж фламандской культуры Тиль Уленшпигель в ленкомовской постановке стал примером художественной метафоры, преодолевшей границы времени и расстояний. Она читалась на сто процентов, делала Тиля нашим современным героем. Этот спектакль сразу же оказался в центре всеобщего внимания, стал откровением не только для театральной, но и для общественной жизни.
Григорию Горину меня представили в период работы над «Тилем». Наверное, мое начало в «Ленкоме» выглядело наивным, я еще не успел зарекомендовать себя серьезными достижениями на сцене. Но Гриша все же отнесся ко мне с уважением, как к человеку, который уже что-то сделал в кино (на тот момент вышли «Служили два товарища», «Щит и меч», другие картины). Не могу сказать, что мы тогда очень часто встречались, но встречались. До определенного момента – пока Марк Захаров в 79-м году не решил снимать «Мюнхгаузена».
Спустя годы после выхода фильма в одном телевизионном интервью к юбилею Горина я предположил, что на эту роль должны были выбрать не меня. Поскольку любая совместная картина Захарова и Горина становилась их исповедальной и авторской работой, то, наверное, Мюнхгаузена должен был играть Андрей Миронов. После передачи, где я высказал эти соображения, Гриша возразил мне: «Почему ты так решил, Олег? Это не так». Но я все же думаю, что так. Во всяком случае, и Гриша давно был близок с Андреем, и Марк к нему очень тянулся и даже одно время хотел перетащить его в свой театр. Они планировали поставить на Миронова «Томаса Беккета» Жана Ануя, однако это так и не удалось осуществить.
Видимо, к тому моменту Захаров почувствовал во мне другие возможности: перед фильмом у меня уже была счастливая возможность проявиться – я сыграл в спектакле «Синие кони на красной траве». Сейчас, возможно, к подобным постановкам отношение поменялось, но в те годы этот спектакль считался событием. В чем, разумеется, заслуга Марка Анатольевича: дать роль Ленина артисту, известному публике как белокурая бестия по «Щиту и мечу», к тому же без грима – на такое только дерзкий Захаров мог решиться. И спектакль получился. После него и появилась тема «Мюнхгаузена». Думаю, Гриша легко написал сценарий. К тому времени его пьеса «Самый правдивый» успешно шла в Москве в Центральном театре Советской Армии, а после выхода фильма на экраны она стала еще более популярна, игралась по всему Союзу и в других странах.