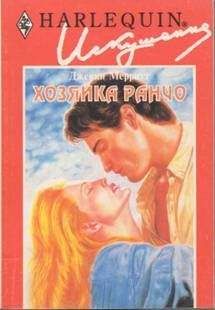Этим он обрек его жить до судного дня. Он живет вечно, но в конце каждого столетия с ним случается припадок или транс, после чего к нему возвращается возраст, в каком он был во время страданий Христа, а было ему тогда около тридцати лет. Такова история Майкоба Адера — Вечного Жида, который говорит…»
Здесь рукопись обрывалась.
Я, должно-быть, что-нибудь громко произнес насчет Вечного Жида, потому что старик заговорил громко и с горечью.
— Это ложь, — сказал он, — как девять десятых того, что называется историей. Я — язычник, а не еврей. Я пришел пешком из Иерусалима, сын мой. Но если зто делает меня евреем, тогда все, что выливается из бутылки, — детское молоко. Мое имя — на карточке, которая у вас в руках. Вы прочли также кусок газеты, называемой «Дурацкий Шпион», которая напечатала это известие, когда я вошел в ее редакцию в 19-й день июня в 1643 году. Это произошло почти так же, как я посетил вас сегодня.
Я положил карандаш и бювар. Ясно, что из этого ничего не выйдет. Могло бы выйти кое-что для столбца местных известий в «Трубе». Но такой материал не подойдет. Однако отрывки мыслей, касающихся этой невероятной «личности», стали пробегать по моему специфическому мозгу. «У дяди Майкоба такие же проворные ноги, как у юноши тысячи лет или около того»… «Наш великий посетитель рассказывает, что Георг Вашинг… нет, Птоломей Великий качал его на коленях в доме его отца». «Дядя Майкоб говорит, что наша сырая весна ничто в сравнении с сыростью, которая погубила урожай вокруг горы Арарат, когда он был мальчиком». Но нет, нет, из этого ничего не выйдет.
Я старался найти тему разговора, которая могла бы заинтересовать моего посетителя, и колебался между состязанием в ходьбе и плиоценовым периодом, как вдруг старик начал горько и мучительно плакать.
— Ободритесь, м-р Адер, — сказал я, несколько смущенный. — Все это может выясниться через нерколько сот лет. Уже наступила явная реакция в пользу Иуды Искариота, полковника Берра[11], и известного скрипача Нерона. Наше время — время обеления. Вам не следует падать духом…
Сам того не сознавая, я затронул в нем слабую струну. Старик воинственно сверкнул глазами сквозь старческие слезы.
— Пора, — сказал он, — чтобы лжецы кой-кому воздали должное. Ваши историки — то же самое, что кучка старух, болтающих на паперти храмов. Из людей, носивших сандалии, не было человека лучше императора Нерона. Я был при пожаре Рима. Я хорошо знал императора, так как в те времена был известным лицом. Тогда почитали человека, который живет вечно. Но я хотел рассказать вам об императоре Нероне. Я вошел в Рим по Аппиевой дороге ночью июля 16 года 64. Я только что прибыл в Италию через Сибирь и Афганистан; одна нога у меня была отморожена, а на другой был пузырь от ожога песками пустыни. Я чувствовал себя довольно скверно, неся обязанности патруля от Северного полюса до крайней точки Патагонии, и в придачу неправильно считаясь евреем. Так вот, я проходил мимо цирка. Дорога была темная, как деготь. Вдруг слышу, кто-то кричит: «Это ты, Майкоб?»
Прислонившись к стене, спрятанный между старых ящиков из-под мануфактуры, стоял император Нерон в тоге, обернутой вокруг ног, и курил длинную черную сигару.
— Хочешь сигару, Майкоб? — сказал он.
— Это зелье не для меня, — говорю я. — Ни трубка, ни сигара! Какая польза от курения, если нет и тени возможности убить себя этим?
— Правильно, Майкоб Адер, мой постоянный жид, — сказал император, — ты всегда путешествуешь. Верно, что опасность, а также и запрещение придают вкус нашим удовольствиям.
— Почему же, — говорю я, — вы курите ночью в темных местах, и вас не сопровождает хотя бы центурион в гражданском платье?
— Слышал ты когда-нибудь, Майкоб, — говорит император, — о предопределении?
— Я больше знаю о нашем хождении, — ответил я, — это вам хорошо известно.
— Это говорит мой друг Нерон, — учение новой секты людей, которых зовут христиане; они ответственны за то, что я курю по ночам в потемках в разных дырах и углах. Тогда я сажусь, снимаю пару сапог и тру отмороженную ногу, а император рассказывает мне. Повидимому, с тех пор, как я раньше проходил по этой дороге, император потребовал развода у императрицы, а миссис Поппея, знаменитая лэди, была приглашена, без рекомендаций, во дворец.
В один день, — говорит император, — она вешает чистые занавесы во дворце и записывается в противотабачный кружок. И когда я чувствую потребность покурить, я должен прокрадываться в потемках к кучам этого хлама.
И так мы продолжали сидеть, император и я, и я рассказывал ему о моих странствиях. И когда утверждают, что император был поджигателем, то лгут. В эту ночь начался пожар, который уничтожил Рим. По моему мнению, он начался от окурка сигары, который император бросил между ящиками. Ложь также и то, что он в это время играл на скрипке. Он шесть дней делал все возможное для того, чтобы остановить пожар, сэр.
Теперь я обнаружил новый запах у мистера Майкоба Адера. Я обонял не мирру, не бальзам или иссоп. Нет, — эманация была запахом скверного виски и — что было еще хуже! — душком комедии того сорта, какую мелкие юмористы публикуют, одевая серьезную и почтенную сущность легенды и истории в вульгарную мещанскую ветошь, сходящую за некоторый род остроумия.
Я мог переносить Майкоба Адера, как самозванца, выдающего себя за тысячадевятисотлетнего старика и играющего свою роль с приличием респектабельного умопомешательства. Но в роли шутника, понижающего ценность своей замечательной истории легкомыслием водевилиста, его значение уменьшалось.
Вдруг, как бы угадав мои мысли, он переменил тон.
— Простите, меня, сэр, — захныкал он: — у меня иногда путается в голове; я очень стар и не могу все запомнить…
Я понимал, что он прав, и что мне не следует пытаться примирить его с римской историей; поэтому я начал расспрашивать его о других древних личностях, с которыми он был близок в своих странствованиях.
Над моей конторкой висела гравюра, изображавшая рафаэлевских херувимов. Еще можно было различить их формы, хотя пыль причудливыми пятнами изменяла их контуры.
— Вы называете их херувимами, — прокудахтал старик, — вы представляете их себе с крыльями, в виде детей. А есть еще другой херувимчик, на ногах, с луком и стрелами, которого вы зовете «Купидон». Я знаю, где их нашли. Их пра-пра-прадед был козел. Как редактор, сэр, вы, вероятно, знаете, где стоял Соломонов храм.
Мне казалось, что в… в Персии. Впрочем, я не знал наверно.
— Ни в истории, ни в библии не сказано, где он стоял. Первые изображения херувимов и купидонов были высечены на его стенах и колоннах. Два самых больших, сэр, находились в самой священной части храма, поддерживая балдахин над ковчегом, Но вместо крыльев, у них были рога, а лица были козлиные. Внутри и вокруг храма насчитывалось десять тысяч козлов. Ваши херувимы были козлами во времена Соломона, но живописцы ошибочно переделывали рога в крылья. Я также очень хорошо знал Тамерлана, хромого Тимура. Это был небольшой человечек, не крупнее вас, с волосами цвета янтарного чубука у трубки. Он похоронен в Самарканде. Я был на похоронах, сэр. О, в гробу это был прекрасно сложенный человек, длиною в шесть футов, с черными баками. Я помню также, как в Африке бросали репами в императора Веспасиана.
Я исходил весь свет, сэр, без малейшего намека на отдых. Так мне было приказано! Я видел разрушение Иерусалима и гибель Помпеи при извержении. Я был на коронации Карла Великого и на линчевании Жанны д'Арк… И куда бы я ни пошел, везде начинались бури и революции, эпидемии и пожары. Так было приказано. Вы слышали о Вечном Жиде? Все верно, за исключением того, что я еврей. Но история лжет, как я уже говорил вам. Уверены ли вы, сэр, что у вас нет капельки виски? Вы хорошо знаете, что мне предстоит еще много миль дороги.
— У меня нет никакого виски, — сказал я, — и, извините, я собираюсь ужинать. Этот древний бездельник становился сущим наказанием. Он вытряхнул затхлые испарения из своей древней одежды, опрокинул чернильницу и продолжал нести свою нестерпимую околесицу.
— Я не обращал бы на это внимания, — жаловался он, — если бы не работа, которую я должен исполнять в страстную пятницу. Вы, сэр, конечно, знаете, про Понтия Пилата. Когда он покончил с собой, тело его было выброшено в озеро на Альпийских горах. Теперь послушайте, какую работу я должен исполнять каждую страстную пятницу. Старый дьявол спускается в озеро и вытаскивает Пилата, а вода кипит и брыжзет, как в кипятильном котле. Старый дьявол сажает тело на трон на скалах, и тут-то начинается мое дело.
О, сэр, вы пожалели бы меня! Помолились бы за Вечного Жида, который никогда не был жидом, если бы видали весь ужас того, что я должен делать. Я должен принести чашу с водой и стоять перед ним на коленях, пока он моет руки. Заявляю вам, что Понтий Пилат — человек, умерший двести лет назад, вытащенный вместе с покрывающей его тиной, без глаз и с рыбами, вьющимися внутри его, и с разлагающимся телом, сидит на троне, сэр, и моет руки в чаше, которую я держу пред ним каждую страстную пятницу. Так было приказано!