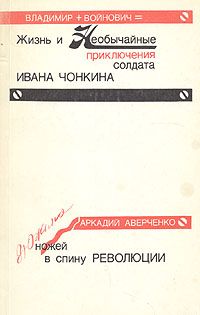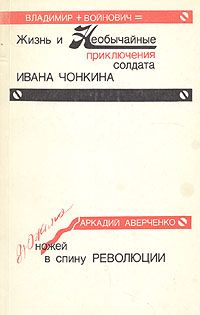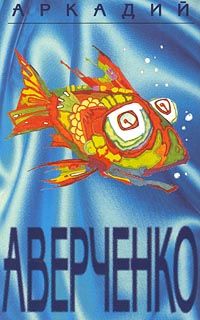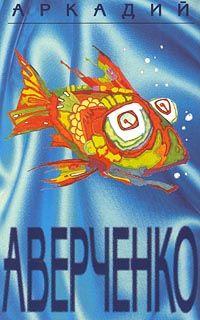Мы проглотили еще по стопке пойла.
— Да, это не мальвазия и не асти… — сказал Аверченко и поморщился. — Возможно ли издание сатирического журнала в строящей социализм России?
— Да. Щедрины и Гоголи нам нужны. Позарез.
— Архимандрит Иннокентий Тамбовский — я с ним как-то ужинал — в верчение блюдечек верил. И я, грешный, увлекся. Гоголя все хотел на свидание вызвать или папочку.
— Ну и что? Тогда блюдечки вертелись. Теперь тарелки летают. — Я не отставал от Аверченко. — Это в США они летают. У нас нет тарелок. Только космонавты. Все от политико-морального состояния зависит. Солженицыну небось в Небраске или Иллинойсе летающие самовары уже мерещатся.
— Нет-нет, не скажите! Иннокентий за верчением стола у духа покойного градоначальника Лауница узнал, что того не революционеры кокнули, а сами его полицейские. Таких подробностей без блюдечек не узнаешь.
— Вам виднее, — уклончиво сказал я, подумав притом, что ежели я со старым покойником разговариваю, то скоро и сам начну столы вертеть.
— Просьба у меня к вам, голубчик, — Аверченко откашлялся. — Свозите меня на Волково кладбище. Можете вы себе это позволить?
— Могу. Что, уже заскучали на поверхности?
— Погребение, молодой человек, это как долголетнее одиночное заключение. Как горько я плакал, будто предчувствуя свою могилу, читая в пятом номере Красного архива о Нечаеве в Алексеевском равелине… Какую отраду доставляют покойнику сияние звезд или парящее в небе облако… Но! Вылезешь, бывало, из могилы, и не нужны тебе никакие облака. Ты — на чужбине. А душа сокрушена тоской по родине, вечной тоской, неизбывной, из сердца сочащейся. Ни вино, ни гашиш не спасут, не облегчат, усилят только. Сознательно с ума сойти душа жаждет, чтобы биться в смирительной рубашке, кусаться и орать, зверино орать: Россию дайте, сволочи-и-и!!! Кусочек Руси!
Я налил еще водки.
— Так вы… приехали, чтоб примериться к своему возможному погребению здесь, в болотистой питерской земле?
— Именно.
Аркадий Тимофеевич закурил мой Север.
— Может быть, все-таки с Эрмитажа начнем? Или вот у нас теперь в бывшем Конногвардейском манеже замечательный выставочный зал. Там как раз выставка Морские дороги нашей родины — живопись и скульптура. И, не могу не похвастаться, на выставке мой бюст в бронзе в натуральную величину.
— О! При жизни! — воскликнул Аверченко с неподдельным почтением. — Я не знал, что вы до такой степени знамениты… Как вы переносите свою известность? Тяжело?
Я сказал Аркадию Тимофеевичу, что быть знаменитым для меня всегда получается вовсе некрасиво.
— Вы в Праге всемирно известную экспозицию Национального музея в верхнем конце Вацлавской площади посетили?
— Нет, врать не буду, не посетил.
— То-то же… А познакомились мы с вами на пражском кладбище, уважаемый Виктор Викторович. Не на каком-нибудь старом Малостранском. Там с одна тысяча восемьсот четвертого года никого не хоронят. Нет, не там мы познакомились, а на самом обыкновенном. Значит, и вы любите в чужих краях шляться по кладбищам. Ну, так не соблазняйте меня смотреть ваш бюст в бронзе.
Ближе всего было Смоленское. Там — бабушка, и на ее могиле я давно не был. И пройти на Смоленское с Петроградской можно по замечательно красивым местам. И раньше там был Блок похоронен… А может быть, на Красненькое к Юльке Филиппову?
Аверченко допил остывший кофе и взбодрился:
— Ехать — так ехать! — как сказал Распутин, когда Пуришкевич бросал его с моста в довольно прохладную воду Мойки. Только отправимся пешком. К таксомоторам я так и не привык. Извозчики моя любовь. Последняя запись в записных книжках Чехова — если память не изменяет, он ее перед смертью сделал, — Чем глупее извозчик, тем больше его любит лошадь.
В сквере угол Лахтинской и проспекта Щорса на пересечку нашему курсу поднялся с садовой скамейки ханыга. Трезвый, видок угнетенный, лет тридцати пяти, с бородкой клочьями.
Или закурить попросит, или мелочи — это закон. Намазан я для этакой публики какой-то флюоресцирующей краской.
Все точно.
— Дай, отец, рублишко! — Это ко мне. — Двадцать шестого марта из заключения вышел, без работы сижу, опять воровать идти? Дай, отец, рублишко!…
Высыпаю горсть мелочи.
Отстал, поблагодарил даже чувствительно. Какой-то инстинкт говорил, что он сейчас пожрать купит, а не выпивку: настоящее несчастье и горе прошло на пересекающемся курсе.
— Вы ему подали, потому что боялись? — спросил Аркадий Тимофеевич.
— Нет, любезный гражданин, из привычки. И по жалости.
— Он бывший заключенный?
— Заключенных у нас нет. Есть только осужденные.
— Гм. И давно?
— Как вам сказать. Сам об этом узнал недавно. Вдруг в Горлите останавливают книгу. А там я цитирую письмо заключенного ко мне. Он написал: А книга для нас — окно в прекрасный мир свободы. Но и среди книг можно попасть в дурную компанию.
— Замечательная фраза! И что?
— Остановили книгу, а она уже в типографии на машине крутилась. Да.
— Кто остановил?
— Цен… Редактор остановил. Такой болван — святых выноси. Оказывается, надо было заменить заключенного на осужденного.
— И все?
— Ага.
— И вы заменили?
— Конечно.
— А дальше-то все осталось?
— Конечно, осталось.
— И окно в прекрасный мир свободы осталось?
— Естественно.
— Осужденный к смертной казни написал мне… Дико звучит, а?
— Вы правы, но я об этом не подумал, не до того было.
Мы двинулись к пивному ларьку.
— Знаете, у меня сейчас, по выражению Пуришкевича, на душе пух от восторга.
— Это почему?
— Как были наши российские цензоры выдающимися идиотами, так и остались. Сколько крови у меня выпили! Последний в Крыму врангелевский цензор был. Он…
— Но-но, Аркадий Тимофеевич, я, конечно, с вами откровенничаю, ибо, простите, вы все-таки покойник и лишнего болтать не будете, но запомните: цензуры у нас нет. Ни предварительной, никакой.
— Они, цензоры и критики, и в мое время вислоухими были, — продолжал Аверченко, чихнул, достал платок, со вкусом высморкался. — И все нюхают, нюхают, а след взять не могут! Беспородны от роду. Когда, милгосударь, у нас в критику графы-то шли? Одни разночинцы-с! Отсюда и вечные комплексы российских критиков: в писатели им хочется, а сами — дворники, дворняжки.
Мы подошли к ларьку угол Гатчинской и встали в очередь.
— Вы не озябли, Аркадий Тимофеевич? Обратите внимание. Чем ближе к окошечку, тем торжественнее двигается очередь. У меня иногда в очереди за пивом возникает ощущение, что я на первомайской демонстрации.
— Как сказать, как сказать, коллега! Торжественно — да. Но и похоронные процессии торжественны, хотя, гм, я еще не видел, чтобы на похороны шли с кошелками ананасов. Впрочем, я и в храмах еще не видел молящихся с пипифаксом в карманах драпового пальто… Этот старик явно что-то хочет у нас спросить.
Патриарше оглаживая бороду, к нам приблизился старик с бородкой а-ля Толстой и сказал, обращаясь непосредственно к Аверченко:
— Двух до двадцати двух не хватает, граждане.
Аверченко по-немецки спросил у меня о смысле сказанного. Я объяснил, что а-ля Толстой просит купить ему на похмелку пива.
— Мы имеем право? — несколько взволнованно спросил меня Аверченко. — Мы купим ему пиво? Хотелось бы войти в контакт со старцем.
— Спасибо, граждане — просипел старик. — Мне холодного!
Он вклинился к нам, и пахнуло от него месячной грязью нестиранного исподнего белья. Борода, довольно белая из прекрасного далека, при ближайшем рассмотрении оказалась слипшейся то ли от блевотины то ли от какой-то другой химии.
…Вместо сдачи ларечница сунула мне конфетку Сказки Пушкина.
— Замечательная эстетика! — воскликнул Аверченко. — Лубки ненавидел. До колик. Теперь ни одного не вижу. Замечательно. И вдруг степей калмык… и ныне дикий тунгус…
Мы прошли до площади Добролюбова, полюбовались на замечательный образ великого русского демократа, который, честно говоря, так и не отпечатался в моей башке, ибо я так и не видел его сочинений и знать не знаю, что стоит за его революционным жаром.
Солнце нещадно палило. В голове моей взрывались протуберанцы.
Очередь на такси стояла огромная. Томились мы долго. Машин не было.
Подошел пьяный с огурцом.
— Граждане! Длинный какой огурец! А я его за рупь двадцать отдам! За весь огурец один рупь и двадцать копеек — на бутылку не хватает, граждане!
Другой помятый гражданин, стоявший в очереди, оживился немного, перестал даже покачиваться:
— Покупаю, кореш! Только одно условие…
— Какое еще условие? И так даром отдаю.
— Беру, если навырез!
— Это как навырез? — заинтересовался Аверченко.
— Как арбуз.
— Так он же огурец!?.
— Ну и что?
Мужики препирались минут пять и ушли вместе.
Пьянство, мне показалось в тот момент, это когда шагаешь по смерти то с веселой, то с грустной песней.