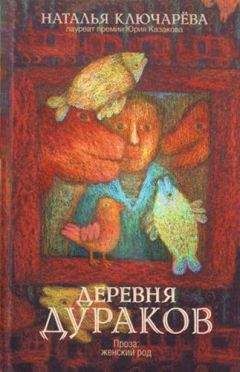Следующим был Бузин. Я дождался его у дверей. Он вышел весь серый и сырой, как поганка после дождя.
— В понедельник медкомиссия, — сказал он, затравленно грызя ногти сразу на обеих.
— Аналогично.
— Сегодня вторник. Шесть дней есть. Надо делать МДП.
— Это что такое?
— Маниакально-депрессивный психоз. Шиза дороже. Пятихатка, не меньше. А МДП сейчас за пару соток можно прописать. Есть знакомый профессор. Не желаешь?
— В дурку ведь положат!
— А как же!
— Не-е-ет. Психом не хочу быть. Я нормальный. Может, плоскостопие с близорукостью прокатят.
— Как знаешь… Нормальных и плоскостопых сейчас в горячие точки шлют. Типа Афгана.
Через три дня Бузин лежал в дурке. За три сотни. Я его посетил. Он ходил по коридорам в желтом плюшевом халате с двумя бюстами Ленина в карманах и, блаженно жмурясь, потряхивал около уха спичечным коробком. В коробке были таблетки.
— Леденцы с Лубянки! — громко говорил Бузин. — Комитетского гостинца не желаете, товарищ призывник?
В понедельник я пришел на медкомиссию. Доктор, мужчина лет пятидесяти с хулиганскими, но добрыми серыми глазами, сказал:
— Значит МГУ закончили? С испанским? В аспирантуру собрались?
— Ну да, — вяло отозвался я. В мыслях я уже служил спецпропагандистом где-нибудь на Таймыре. Так и виделось: Тундра, и я с матюгальником агитирую белых медведей сдаваться красным.
— Что, думали, вас переводчиком куда-нибудь на Кубу пошлют? Да? Валюту будут платить? А?
— Да нет… Мне сказали на север в политвойска.
— Эх, пять лет я на Кубе проработал. «Небо надо мной, небо надо мной, ка-ак со-мбре-ро!» М-да… Значит, близорукость, — отстукивал он ручкой по тетрадке. — Плоскостопие… Сколеоз… Это все не то! Все не то! А это у вас что такое?
Он указал на рубец, который остался у меня на шее после операции. Год назад мне вырезали кисту, а рубец остался.
— Киста была, — сказал я.
— Мг… Гипертрофированный рубец. Так и запишем. Натирает?
— Что?
— Ну, рубец, когда пиджак носите, натирает? — медленно проговорил он и подмигнул. — «Берег золотой, берег золотой… Ва-ра-де-ро!..»
— Натирает! — просиял я.
— И что, сильно натирает?
— Сильно.
— Так и запишем. Раз пиджак натирает, значит гимнастерка будет натирать. Правильно я говорю?
— Правильно!
— Значит пишем: рубец слева.
— Вообще-то он справа…
— Ну да, справа. «Куба далеко, Куба далеко, Ку-уба ря-а-адом!..» Всё, свободен, аспирант. «Это говорим, это говорим — мы!» Следующий!
Я шел домой чуть не плача. Не столько от радости, сколько от благодарности. А ведь даже спасибо от растерянности не сказал. Так всегда бывает: за самое-самое главное-то мы никогда и не благодарим. Не догадываемся, не успеваем…
Бузин просидел в дурке неделю. Он так хорошо вошел в роль психа-диссидента, что его все-таки заметили. Но по другому поводу. Диссиденты тогда уже никого не интересовали. Бузин орал на весь психодром, что у Горбачева сифилис от Раисы, которую заразил Лигачев, что в КГБ берут работать только гомосеков, в общем нем всё, что угодно, — ноль реакции. Тогда Леня сделался немного буйным. Чуть-чуть, в меру. Ему прописали дополнительные таблетки. Он их отказывался принимать в агрессивной форме. И опять же — с антисоветскими формулировками. Тогда его сдали родителям: или пусть подписываются на принудительное лечение, либо пусть забирают. Леню родители забрали. Еще через неделю Леня сочинил большое письмо в норвежское посольство (он грезил фьордами), где описал все ужасы своего психодиссидентства. Прилагались справки и свидетельства очевидцев.
Год совершенно психически здоровый Леня сражался за право сидеть в норвежской психушке. И он добился своего. Как ему это удалось — бог весть. Гуманные норвежцы дали Лене вид на жительство и отдельную комнату с трехразовым питанием в психушке одного маленького норвежского городка. Там было всего четыре комнаты и, соответственно, четыре психа: два тихих восьмидесятилетних норвежца-параноика с манией преследования, Леня с якобы тяжелой формой МДП и пожилая финская шизофреничка, которая постоянно натягивала в своей комнате веревочки и развешивала на них газеты.
В этой милой компании Леня провел более пяти лет. Его упорно лечили, но вылечиваться Бузину было никак нельзя. Потому что это автоматически влекло за собой репатриацию на родину. А ему нужен был окончательный, пожизненный диагноз и, как следствие, норвежское гражданство.
В 1999 году Леня получил и то и другое. Он до сих пор переписывается со мной по интернету. Вежливо приглашает приехать и пожить у него в дурке. А я не менее вежливо отказываюсь. Три года назад Леня наконец устроился разносчиком газет. Его изредка отпускают в Осло и Берген. Он ходит в кружок психотерапийной живописи «Весенний фьорд». За картину маслом «Апрельский сон Мунка», изображающую некую встревоженную зеленую лошадь с красными глазами и с семью ногами на фоне обрывков театральных афиш, Леня получил почетную грамоту ассоциации психотерапевтов одного труднопроизносимого норвежского города, то ли Хёрпёрсёрген, то ли Стрёмдёртёрберг, не помню. Словом, у Лени интересная, бурная, богатая, разносторонняя творческая жизнь.
Полтора года назад Бузин на неделю приехал в Москву навестить родителей. Мы встретились. Леня пополнел, стал похож на Мумипапу. Он подарил мне «дефицит»: бутылку настоящего норвежского пива и упаковку настоящего норвежского козьего выра. «Вот, — сказал он, — попробуй, это очень-очень вкусно. Такого в вашей вонючей Рашке нету и никогда не будет».
Действительно, пиво и сыр прекрасные. Но говорить, что весь этот норвежский дефицит есть в моем соседнем минимркете, я не стал.
И таких историй — десятки.
В прошлом отчаянный бабник Андрюша Лиховёртов, ради эмиграции в Голландию притворившийся голубым. Пару лет Андрюша работал «девушкой» в амстердамском гей-клубе, потом куда-то сгинул. Никакой информации.
Леночка Вереск, красавица и умница, вышедшая замуж за безработного английского алкаша. Наши алкаши ее не устраивали: плохо пахнут. Ароматный английский синюшник развелся с Леночкой, и, вроде бы, она моет сейчас посуду где-то в Ливерпуле.
Катя Шляпкина, урожденная Оболенская, а по маме — Гольдман, шустро уехавшая в Германию сразу по двум линиям — дворянской и еврейской, сейчас печально сидит на пособии. Если еще год не найдет работу — репатриируют.
Боксер-разрядник Вадик Пятимордин, в прошлом красавец, бретер и сердцеед, женившийся на бельгийке Адель. Папа Адель, правда, шоколадный магнат. Тут Вадик не прогадал. Но зато Адель почти на двадцать лет старше Вадика, имеет усы, которые принципиально не сбривает по феминистским убеждениям, огромные костистые уши, редкие, как грабли, зубы и склонность к садизму. Говорят, Вадика она регулярно избивает. А Вадик терпит. Куда ж ему деваться? Разведется — придется возвращаться на «вонючую родину».
Вадик килограммами ест бельгийский шоколад, иногда плачет, но держится. Бывал я у Вадика в его особняке под Брюсселем. Большой гулкий павильон с антиквариатом. Вадик тоже иногда приезжает в Москву. Снабжает меня шоколадом. Шоколад отличный, не спорю. Не хуже «Аленушки».
— О! Шоколя́ бельж! — охает размордевший Пятимордин, чмокая и сопя. — Шоколя бельж, сэ бон, нес па?
— Да, Вадюха, отличный продукт. Только ты мне кончай его привозить в таком количестве. У меня от него уже диатез и ципки. Лучше скажи, Аделька-то твоя как?
Вадик вздыхает, сосредоточенно отправляет в рот очередную шоколадку и, как-то мутно глядя на фантик, говорит:
— Зато шоколя́ какой! Разве тут у вас найдешь такой шоколя́? Ни в жизнь. Жамэ дё ма ви. О, шоколя́ бельж — сэ манифик!
Самый последний контакт с нашими «бывшими» произошел у меня недавно, в самом конце мая. В Варшаве.
В Варшаву меня давно зазывал Саша Ляхов, приятель моего детства. Его история весьма щадящая. Никаких норвежских психушек и шоколадных мордобоев. То есть мордобои были, но по другому поводу.
С юности Ляхов занимался рукопашным боем. Он отслужил в армии, потом устроился охранником. Перевозил большие деньги «вживую» через границу, был близок к криминалу. Носил тот самый малиновый пиджак и золотой канат на шее. Слушал включенный на полную мощность «Владимирский централ» в джипе. В общем, шел в ногу со временем. Потом организовал то-то свое, прогорел, опять организовал, снова прогорел…
В 1993 году Саша вдруг узнал, что означает его фамилия. Я ему, кстати, об этом и рассказал. Что «лях» — значит «поляк». Вообще-то это знают все, но Саша думал, что лях — нехорошее обзывательство типа лоха. И очень стыдился своей фамилии. А тут воскрес. Идея польского происхождения поразила его в самое сердце. К тому же у него в это время как раз были компаньоны — братки-ляхи. Мордастые такие улыбчивые братья-славяне, шеи цвета кремлевского кирпича, стальной ёжик на глянцевых розовых черепах, морды напильником, все как полагается.