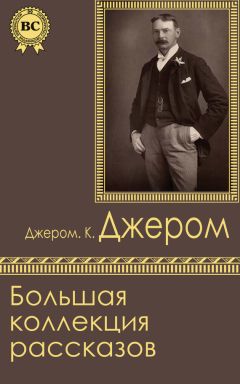Вернувшись домой, я принялся обдумывать сюжет трогательной истории, но ничего подходящего на ум не приходило. Комического – сколько угодно, хоть отбавляй. Даже голова затрещала под бурным наплывом смешных представлений и положений. Если бы для отвлечения этого ужасающего прилива я не погрузился в последний номер «Панча», нашего наиболее популярного юмористического журнала, то, право, мог бы с ума сойти.
«Нет, по-видимому, сегодня мне не удастся вызвать у себя патетического настроения, – говорил я себе, – значит, ни к чему и насиловать себя. Посмотрим, что будет дальше. Спешить особенно некуда. Времени впереди еще много. Успеется».
Я ожидал, что на меня найдет вдохновение «духа скорби и печали», но вместо того, наоборот, я, как нарочно, с каждым днем проникался все большим и большим весельем. Смешные сцены все время всплывали в моем воображении, и я мог бы наполнить ими рождественские номера всех выходящих в Лондоне юмористических изданий.
В середине августа я почувствовал, что если мне и в течение двух оставшихся недель этого месяца не удастся нагнать на себя хандру, то в рождественском номере «Еженедельника» не будет ничего, что могло бы заставить трепетать от жалости сердца британского общества, и тогда навсегда померкнет слава этого популярнейшего журнала для семейного чтения.
В те дни у меня еще была совесть. Раз я дал слово, что к концу августа напишу трогательную историю, я чувствовал себя обязанным сдержать это слово во что бы то ни стало, ценою каких бы то ни было жертв; только смерть или полное умственное расстройство могли мне помешать.
Зная по опыту, что несварение желудка способно довести до чернейшей меланхолии самого отъявленного весельчака, я начал питаться вареной свининой, йоркширскими пудингами, жирными паштетами; за ужином съедал огромную порцию салата из омаров. Но этот режим питания подействовал только в том смысле, что у меня появились ночные кошмары. Мне снились лазающие по деревьям слоны и пляшущие церковные старосты, и я просыпался от гомерического хохота.
Но так как расположения к смеху у меня было и без того слишком много, и именно с ним мне и хотелось бороться, то я бросил всякие желудочные эксперименты и принялся с ожесточением читать целую кучу трогательных историй, написанных другими. Но и это не помогло. Рассчитанная на «трогательность» маленькая девочка в Вудвордском рассказе «Нас семеро» только раздражила меня, так что я готов был поколотить эту девочку. Чувствительные морские разбойники Байрона заставляли меня зевать. Когда в какой-нибудь повести умирала героиня, я радовался и не верил словам автора, что с минуты смерти этой девушки ее жених никогда уже больше не улыбался.
Наконец я прибегнул еще к одному средству, которое показалось было мне наиболее подходящим к данному случаю: пересмотрел всю свою собственную литературную стряпню. Однако и это средство оказалось бессильным навеять на меня грусть в такой мере, чтобы создать прочное настроение.
Тогда я собрал гору классической мировой сентиментальной литературы и с храбростью отчаяния погрузился в ее недра. Это немножко понизило было мое жизнерадостное настроение, но не в нужной степени и ненадолго. Положение становилось критическим.
В субботу предпоследней недели августа я пригласил к себе старого певца грустных былин и баллад. Старик добросовестно старался заслужить те пять шиллингов, которые попросил у меня как плату за свой труд. У него оказался огромный репертуар английских, шотландских, ирландских, валлийских и даже немецких (конечно, в английском переводе) жалоб-нейших баллад, способных тронуть самые каменные сердца, но только не мое. Вместо того чтобы впасть в тихую грусть, как можно было ожидать, я готов был пуститься в пляс под мелодичные звуки и «чувствительные» слова певца. Ноги мои сами собой выделывали эксцентрические движения и замысловатые выкрутасы, особенно в самых патетических местах какого-нибудь «Олд Робина Грэя».
В начале последней недели я снова отправился к издателю «Еженедельника» и откровенно высказал ему, что в данное время я положительно не в состоянии написать что-нибудь трогательное. Рассказал я и о своих неудачных попытках настроиться на нужный лад.
– Не понимаю, какой вам еще нужен особенный лад! – воскликнул издатель, внимательно выслушав меня. – Вам с вашим талантом стоит только сесть да и написать на любую тему. Ведь так вы всегда и делали до сих пор. Что же случилось с вами именно теперь… как бы это сказать?.. Ну, такого, что парализовало ваше перо, что ли?.. Мало ли тем, подходящих для грустных рождественских рассказов? Например, вот хоть эта: молодая девушка безнадежно любит молодого человека, который уезжает за море, и не только долго не возвращается, но и не дает о себе никакой весточки. А девушка все ждет да ждет его и не выходит замуж, хотя ей делаются самые блестящие предложения, и потом умирает со своей невысказанной тайной. Разве это не приходило вам в голову?
– Приходило, – ответил я, немножко раздраженный. – Неужели вы думаете, что я уже не могу…
– Так разве это не годится? – поспешил прервать меня издатель.
– Конечно, не годится! В наше время весь мир стонет от несчастливых супружеств, а вы хотите, чтобы ваши читатели стонали от жалости к девушке, которой благополучно удалось избежать несчастья, – возразил я с еще большим раздражением.
– Гм? – промычал издатель. – А если взять, например, ребенка, который подавал большие надежды и вдруг умирает?
– Ну и слава богу! – воскликнул я. – Что же в этом трогательного? Детей повсюду такая уйма, что хоть беги из-за них на край света… Сколько с ними хлопот и возни!
Поняв, что писать трогательные истории о влюбленных девицах и умирающих детях я не расположен, издатель спросил, не возникало ли в моем воображении представления о дряхлом одиноком старце, который в рождественский вечер плачет над грудой пожелтевших писем, начертанных давно уже истлевшею любимою рукою?
– Возникало, – ответил я. – Но я тотчас же отмахнулся от этого старика как от сентиментального идиота.
– Так напишите об умирающей собаке, – продолжал издатель. – Публика любит трогательные истории о собаках, жертвующих жизнью ради спасения хозяев от разбойников или…
– Ну, это уже не рождественская тема, – прервал я. Остановились было на теме об обманутой девице, но оставили и эту тему, как не годную в журнале семейного чтения.
– Ну, так пусть ваша голова отдохнет несколько дней, а потом, наверное, к вам само собой явится настоящее вдохновение, – решил издатель. – Мне бы не хотелось обращаться к Дженксу, хотя он и считается специалистом по трогательным историям. У него всегда такие сильные выражения, которые не по вкусу нашим читательницам. Непременно рассчитываю на вас и даю вам еще две недели сроку.
Простившись с издателем, я решил пойти посоветоваться с одним очень популярным, пожалуй, даже самым популярным писателем, дружбой с которым я был вправе гордиться. Быть на приятельской ноге с великим человеком, – разве это плохо?
Положим, в глубоком смысле этого слова мой приятель не был велик, то есть он не принадлежал к числу тех истинно великих людей, которые сами не знают своего величия. Но с точки зрения современности он не мог не считаться великим. Ведь каждая написанная им книга тотчас же по выходе ее в свет раскупалась нарасхват в ста тысячах экземплярах, а каждая пьеса, поставленная им на сцене, шла обязательно пятьсот раз подряд. И чем больше он писал, тем громче прославлялся его талант и тем сильнее гремело по всему миру его имя. Куда бы он ни являлся, его повсюду встречали с величайшими почестями. Общество буквально носило его на руках, ухаживало за ним, всячески лелеяло и баловало. Во всех журналах и газетах красовались прочувствованные описания его чарующего домашнего утла, его чарующих улыбок, слов и манер и всей его чарующей особы.
Сам Шекспир в свое время не был так прославлен, как мой приятель. Как же, повторяю, было мне не гордиться дружбой с такой знаменитостью? Ну, я и гордился. К счастью, он в это время был в городе и, что еще лучше, даже оказался дома, когда я пришел к нему. Я застал его сидящим с сигарой в зубах, перед открытым окном в роскошном кабинете.
Он и мне предложил сигару. Его сигары не из тех, от которых принято отказываться. Поэтому я взял сигару, закурил ее и поведал приятелю о своих тревогах.
Выслушав меня, он довольно долго глубокомысленно молчал. Я уж подумал, что он, быть может, только притворялся слушающим меня, и хотел обидеться на его невнимательность – про себя, разумеется. Но вдруг он отвел свой усталый взгляд от низко нависших над городом тяжелых туч, сквозь которые тщетно пытался прорваться чересчур отважный луч солнца, вынул изо рта сигару и сказал:
– Так вам нужна настоящая трогательная история? Пожалуй, я могу рассказать вам одну. Она коротка, но грустна, а стало быть, и трогательна.