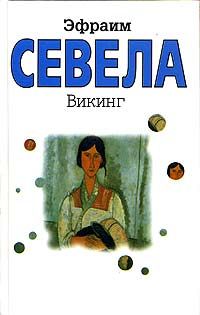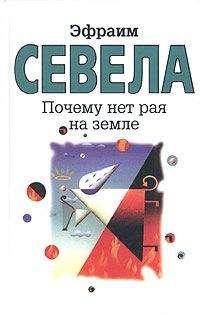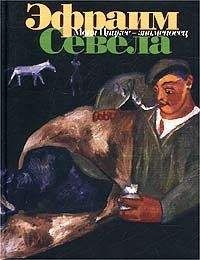Он решил, что обязательно улучит момент и поговорит с ней с глазу на глаз, без свидетелей. А Гайдялис тем временем продолжал ровным дремотным голосом, ничуть не обратив внимания на предупреждение Даусы. Ему льстило, что известный писатель со вниманием, и притом неподдельным, слушает его.
— В общем, кончилось все. Наступил мир в Литве. Как раз в мае 1951 года. Лесных братьев околпачили, спровадили в Сибирь. Парочку человек для близиру оставили, дали выдвинуться в люди. Один, помню, из бывших бандитов на тракторе в колхозе работал. Кажется, Пасвалисе, что ли? Его даже орденом Ленина наградили. Вот смех-то. Ясное дело, для пропаганды. А других и след простыл в Сибири.
Начальство наше думало: все, проблема решена. можно отдыхать. Но не тут-то было. Партизан не стало. Однако, остались те, кто с ними воевал — истребители. Куда им деваться? Народ молодой, профессий никаких. Привыкли жить вольготно, не работать, все, что нужно — выпить, закусить — брали с населения бесплатно. В случае чего — пугнут автоматом или гранатой. Тот же грабеж. И такой жизнью ребятки жили пять-шесть лет. Уже не люди — уголовный элемент. Хоть и числятся коммунистами и комсомольцами. А тут их расформировывают и оружие отбирают. Они не согласны. Разбежались с оружием. И в те же леса, где раньше бандиты от них прятались. Стали промышлять. Грабить склады, магазины. Снова зашумела Литва. Пришлось войска направить. Как собак отстреляли. Похлеще, чем лесных братьев. Когда уж истребителей доконали, вот тогда и стало тихо на Литве.
Гайдялис окутался дымом сигареты и улыбнулся своим мыслям.
— Вам интересно, как я, уцелел? Очень просто. В госпитале лежал. По ранению.
От слов Гайдялиса остро пахло тем страшным, горячим временем, и Пожера, слушая его, отчетливо видел себя в ту пору…
…Уездный комитет партии — уком размещался в двухэтажном каменном доме сразу за оградой костела, вокруг которого росли старые кряжистые липы, и их тяжелые кроны нависали над черепичной крышей укома. Прежде в этой уютной вилле жил настоятель костела, но его сослали в Сибирь сразу после войны, а заменивший его ксендз, испуганный, забитый человечек, безропотно согласился поселиться в маленькой пристройке за костелом.
Днем в укоме стучали пишущие машинки, ржали у коновязи, которой служил массивный, из гранита, крест перед домом, оседланные лошади укомовских инструкторов, с автоматами и гранатами в кармане объезжавших бесчисленные хутора этого лесного уезда, и глубокие вздохи органа, проникавшие из костела, робко плыли над мокрой землей, усыпанной желтыми листьями кленов и, как оспой, исколотой следами конских копыт.
Сеял холодный мелкий дождь, прохожие рано исчезали с улиц маленького городишки, в низких отсыревших домиках в редком окошке брезжил огонек — их обитатели засыпали рано, беспокойным, тяжелым сном людей, не знающих, что им принесет пробуждение, то ли приход милиционера, ищущего самогонный аппарат, то ли грохот сапог вооруженных людей, приказывающих за один час собрать все пожитки, но не больше шестидесяти кило на человека, и следовать на станцию, к холодным товарным вагонам, знающим один путь — в Сибирь.
Иногда по ночам с сухим треском гремели одиночные револьверные выстрелы и захлебывающиеся автоматные очереди, отчего начинали жалобно звенеть стекла в окошках, кто-то, хлюпая, пробегал по улице, доносился простуженный русский мат, потом становилось тихо, был слышен только шорох дождя в голых сучьях деревьев и нервозное поскуливание собак в мокрых конурах. Люди в своих домишках глубже укрывались под перинами и с бьющимися сердцами впадали в зыбкую дрему. Ночью светились окна лишь в одном доме — в укоме партии. На обоих этажах горел свет — его полосы ложились в мокрый сад, и часовой с автоматом, в дождевике с поднятым капюшоном, расхаживал по этим полосам, то исчезая во тьме, то снова выныривая в тусклом свете, цедящемся из окна.
Партийные работники засиживались в укоме до рассвета. Делать обычно было нечего, но уходить никто не решался. А вдруг телефонный звонок из центра? Все знали, что Сталин в Москве страдал бессонницей и свои решения обычно принимал по ночам, и поэтому по всей огромной стране, не спал партийный аппарат, люди зевали, мучительно борясь с дремотой в своих кабинетах, где с больших портретов строго смотрел на них вождь, и днем у них у всех были красные глаза и серые вялые лица.
Альгис сидел в кабинете первого, секретаря. В комнате собралось человек пять, И второй секретарь, и третий, по пропаганде, и начальник уездного МВД, которому тоже интересно было поглядеть на столичного гостя. Сюда редко, кто заезжал, уезд считался опасным, и однодневный наскок корреспондента, в Вильнюсе воспринимался как событие.
Альгис был здесь моложе всех, но на него смотрели с почтением, как на какого-нибудь артиста, человека из другого мира, и в разговоре старательно подбирали слова, чтоб не прослыть в его глазах уж совсем провинциалами. Тут собралась вся уездная власть, люди, от которых зависела судьба любого человека в этой лесной глухомани, но сейчас ночью они не производили грозного впечатления. Они напоминали скучных одинаковых больных, собранных в одну палату. Лица, припухшие от самогона, тусклые бездумные взгляды и одинаковые костюмы зеленоватого цвета, в подражание Сталину, полувоенного покроя. Альгису стало не по себе. Он уже хотел было с ними попрощаться и уйти в соседний кабинет прикорнуть на диване до утра, как в дверь. постучали, а потом на пороге появился в намокшем дождевике часовой с каплями дождя на стволе автомата. Все недовольно повернули к нему головы.
— Разрешите доложить, — просипел часовой с виноватой усмешкой. — Тут одна… женщина… с, детишками… рвется к вам в кабинет. Я говорю, нельзя, а она ругается…
— Гони ее в шею, — отрезал первый секретарь. На то тебе оружие дано… И не беспокой по пустякам.
— Так ведь с детишками… — замялся часовой. В дождь… издалека, видать.
— Ты вот что, — вмешался начальник МВД. Устав забыл. Часовой на посту в разговоры не вступает. Закрой дверь.
— Постойте, — сказал Альгис. — Ведь, действительно, дождь. Возможно, что-нибудь важное. Не станет она с детьми таскаться в ночь просто так. Первый секретарь недовольно поморщился, бросил на часового строгий взгляд.
— Кто такая? Спросил?
— Браткаускене, — виновато ответил часовой. Из Гегучяй.
Знакомая пташка, — хмыкнул начальник МВД, потирая широкой ладонью бритую голову, и подмигнул Альгису. Может раскололись? Приведи.
Часовой закрыл дверь и все наперебой стали, объяснять Альгису, что за особа Браткаускене, которую ему предстояло сейчас, увидеть. С их слов выходило, что она — чудовище, один из злейших врагов советской власти. Живет она на хуторе, в десяти километрах от уездного центра. В колхоз не идет. Земли, правда, мало. Одна глина. Можно считать, бедствует, Да ее еще налогами поприжали. Но дело не в ней, а в ее муже. За ним уже третий год охотятся, и все безуспешно. Пранас Браткаускас прячется в лесах, командир роты у лесных братьев. Лютый, страшный зверь. Не один зарезанный активист на его счету. Из всех облав уходит невредимым.
— Я теперь с ним повел другую тактику, — с охотничьей хитрецой в глазах доверительно сказал Альгину начальник МВД. — Нам доподлинно известно, что раз в два-три месяца он заглядывает домой на хутор. Все же живая тварь, хоть и бандит. Бельишко сменить, детей поглядеть да с женушкой попотеть, Не обойдешься без этого. Он жену, гад такой, любит. Это нам доподлинно известно. Значит, на этом его и надо брать. Расположили мы засаду на хуторе, человек десять наших орлов. Неделями живут — она их кормить обязана и… все прочее…
Увидев, что Альгис не понял намека, он, заиграв глазами, пояснил:
— Народ молодой, и баба она в соку. В очередь ее пускают каждую ночь. Это они умеют. А потом, чего жалеть? Враг — он враг и есть. Пусть познает гнев народа.
Он захохотал. Но встретив недовольный взгляд первого секретаря, стал оправдываться:
— Это же не для газеты. А от своего человека зачем скрывать. Мужское дело. Значит, постоит у нее засада, пока не понадобятся в другом месте. Он тогда на хутор проберется. От нас не скроешь. Пусть порадуется за свою жену. А потом — новая засада. Так и играем. Уже год. У кого терпения хватит.
Он обернулся к двери, за которой послышались шаги. Браткаускене оказалась совсем не красивой молодой бабой с рано увядшим лицом. Альгис пристально вглядывался в нее и понимал, что прежде она, видать, была неплоха собой, но сейчас она производила неприятное, отталкивающее впечатление.
Космы мокрых, лепящихся к лицу волос, бесцветные, застывшие и круглые, как пятаки, глаза, до нитки пропитанная дождем одежда казалась темным тряпьем. Двое испуганных и тоже мокрых детей держались с обоих боков за юбку, с которой текли на пол вода. Что-то во всем облике этой женщины и ее детей было такое, что заставило всех в кабинете насторожиться. Вначале никто не обратил внимания на мокрый темный сверток, какой она держала, прижав локтем к боку.