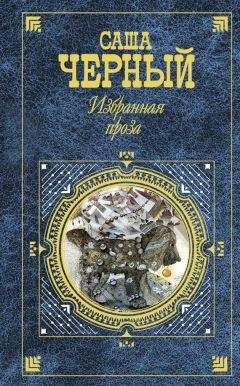Раздался, быть может, впервые на Лейпцигской улице раздирающий сердце визг отчаяния, боли и упрека. Ноги вокруг сомкнулись. Последняя надежда исчезла.
Наверху разыгрались не менее тяжелые события. Господин, отдавивший кошке хвост, освобождаясь от обвившейся вокруг ноги цепочки, очень распространенно извинялся перед дамой, но когда он рассмотрел, что наступил не на собаку, а на кошку, — он остолбенел, успев только крикнуть двум сопровождавшим его пожилым откормленным немкам:
— Кошка!
Немки тоже остолбенели. К ним присоединилась газетчица, которая так толкалась, что ее можно было посчитать за трех, обозревающее Берлин дрезденское семейство в десять голов, несколько фланеров парикмахерского образца, мальчишка, мчавшийся с пустыми кружками в биргалле… Еще и еще. Задние напирали на передних и тоже вставляли свои замечания, хотя еще не знали, в чем дело.
Мгновенно вокруг русской дамы образовался интимный уютный кружок из различного пола и возраста немцев, объединенных двумя разнородными чувствами: безграничным негодованием к дерзкой даме и безграничным состраданием к поруганной кошке.
— Какая извращенность!
— Позвольте, вы уверены, что это кошка?
— Я, сударь, живу на свете пятьдесят два года, что же, я, по-вашему, не могу отличить кошки от собаки?
— Мамаша, мамаша, — ах! Это, верно, укротительница из нового цирка…
— Кто вы такая, сударыня? Как вы смеете мучить несчастное животное?
— По-моему, это сумасшедшая. Посмотрите, какие у нее глаза!
— Ах, осторожнее, осторожнее!
— Возмутительно! Слышите, сударыня? В Германии такие вещи недопустимы!
— Она иностранка?
— Безусловно. Дочь чикагского миллиардера.
— Для чикагских миллиардеров у нас тоже найдутся законы.
— Я ее знаю, она поет в шантане, который около паноптикума. Мисс Кич, здравствуйте, нечего ломаться!
— Да отнимите же у нее, наконец, кошку…
— Полицию, полицию! Вот так всегда… Когда нужна полиция, — она проваливается сквозь землю.
Последнее замечание было, впрочем, несправедливо. Полиция в лице сизо-багрового затянутого шуцмана уже медленно спешила шагом статуи командора к месту.
Оглушенная русская дама еще стойко держалась, но рука, крепко сжимавшая цепочку, судорожно дрожала, щеки пылали то гневом, то стыдом и раскаянием, глаза беспомощно перебегали по толпе, — ни одного человеческого лица, ни одного сочувственного движения. О, ей было еще больней, чем кошке!
Но человеческое лицо наконец нашлось. Незнакомый бритый джентльмен в цилиндре властно раздвинул негодующих зевак, наклонился, поднял кошку и жестом, не допускающим возражений, предложил русской даме руку. Она не противилась.
Знак рукой. Беззвучно подкатил фиакр — и вот уже все позади — и толпа, и щуцман, и жестокая безвыходность, окружавшая ее тупым кольцом еще мгновение назад.
* * *
— Ваш адрес, сударыня?
Русская дама вздрогнула, подумала и еле слышно объяснила. Джентльмен в цилиндре передал ее ответ кучеру.
— Если вы очень расстроены, я могу помолчать, но, если позволите, я бы хотел сказать несколько слов.
— Пожалуйста, — она недовольно пожала плечами. — Расстроена! Станет она из-за этих негодяев расстраиваться… Пусть говорит, все равно ей ничуть не стыдно перед ним, — ведь через четверть часа она его больше никогда в жизни не увидит.
— Вы в первый раз гуляли сегодня с вашей кошкой?
— Да, в первый, — ответ был полон достоинства и непоколебимого сознания исполненного долга.
— Я так и думал, — он внимательно посмотрел на свои перчатки и спросил без тени насмешки в голосе:
— Почему вы не попрактиковались с ней там у себя, в предместье?
— Я не думала, что она будет упираться… — две малодушные слезинки упали на беленькую спинку кошки, но дама взяла себя в руки и, отвернувшись, рассеянно ответила: — В предместье нельзя, там мальчишки.
— Но ведь для вас это, должно быть, безразлично.
Она подозрительно посмотрела на него, но джентльмен в цилиндре совершенно серьезно смотрел в спину кучера, — может быть, даже немного серьезнее, чем это было нужно.
— Безразлично? Не совсем… Они бы устроили кошачий концерт.
— Да, пожалуй… И тогда ваша кошка сошла бы с ума, а вы оглохли.
Дама кивнула головой. Бедная Пусинька! Она о ней совсем забыла… А ведь было мгновение там, на Лейпцигской улице, когда она едва-едва победила в себе позорное желание разжать руку и предоставить свою любимицу всем ужасам одинокой, скитальческой жизни в Берлине. Боже мой, до чего может дойти человек в минуту отчаяния!.. Две крохотные слезинки сверкнули в углах глаз и нависли над кошкой, но раздумали и опять куда-то исчезли.
— Разрешите еще один вопрос? — джентльмен словно нечаянно прикоснулся рукой к ярко-зеленому ошейнику и опять занялся своими перчатками.
— Пожалуйста, — она отодвинулась в угол фиакра и подумала: «Сейчас спросит, замужем ли я и когда мой муж не бывает дома».
— Как это вам пришло в голову?
— Что?
— Кошка.
Она объяснила. Он усмехнулся и, прежде чем она успела обидеться, успокоил ее:
— Я не над вами.
— Мне все равно.
— Конечно. Я просто вспомнил, как я в детстве учил курицу плавать. Но я для этого всегда выбирал такие укромные места у нашего пруда, где никогда никого не было.
Русская дама хотела сделать вид, что не расслышала его слов из-за грохота проезжавшей с железом подводы, но не выдержала и улыбнулась:
— И что же: научили?
— Увы! Она утонула… — он вздохнул и трагически развел руками. — С тех пор я таких опытов больше не производил и вообще пришел к одному заключению…
— К какому?
— Никогда не надо никого заставлять делать то, что противно его природе.
— Вы немец? — спросила она, не скрывая иронического тона вопроса.
— Между прочим, и немец. Но не пруссак, — прибавил он, подчеркивая, и помолчал. — Скажите, как вы думаете, там у вас, в России, ваш опыт вам удался бы?
— Почему вы решили, что я русская?
— Лицо, произношение, история с кошкой…
Она удивилась:
— Да?
— Уверяю вас. Но вы так и не ответили на мой вопрос.
Она подумала и тихо сказала:
— В России? Нет, едва ли…
— Конечно. Их много… И пока они все привыкли гулять с собаками, как они могут позволить кому-нибудь выйти на прогулку с кошкой? Так они относятся, между прочим, и ко всем великим изобретениям.
Русская дама подозрительно покосилась на джентльмена в цилиндре, но тот был совершенно серьезен. Можно даже сказать — торжественно-серьезен.
— Однако великие изобретатели были отважны и шли до конца, не щадя часто… даже своей жизни…
— О, еще бы! Но из-за кошки, я думаю, не стоит. К тому же ей неприятно. Зачем мучить? И потом, я уже сказал…
— Их много, — окончила она, невольно подражая докторальному тону собеседника.
— Конечно. Знаете ли вы, что такое комары? — спросил он вдруг.
— Комары?.. Я вас не понимаю.
— Сейчас. Прошлое лето я хотел провести в очень уединенной местности на севере. У меня далеко не слабый характер и вполне здоровые нервы. И вот не выдержал — сбежал…
— Отчего?
— Комары.
— Что вы? — она недоверчиво посмотрела на рослого, широкоплечего немца.
— Увы. Их было слишком много — я уступил. И, право, остался в выигрыше.
«С чем вас и поздравляю», — равнодушно подумала она и тихонько зевнула.
Кошка сладко спала на коленях. Немец молчал. Вот и ее предместье. Она остановила фиакр за два квартала до своего особняка, тепло поблагодарила своего спасителя, который так и не спросил, «замужем она или нет», быстро взглянула в складное зеркальце на свои заплаканные глаза и, не оглядываясь, торопливо пошла домой.
А джентльмен в цилиндре, возвращаясь один в фиакре на Лейпцигскую улицу, совершенно утратил свой невозмутимо-серьезный вид и всю дорогу улыбался, как мальчишка, которому подарили новые коньки.
<1914>
I
В ресторане не было ни одного свободного места. Между красными столиками искусно лавировали туго перетянутые кельнерши, подымали над головами гирлянды пивных кружек и мимоходом устало улыбались своим кавалерам. Сизый сигарный дым тянулся расплывающимися волокнами через весь низкий зал к входным дверям. Багровые головы склонялись к кружкам, раскачивались и блаженно ухмылялись, а сквозь все ярко освещенное пространство зала, забираясь в самые пьяные глухие уши и в самые дальние углы, мчалась подмывающая, мерно качающаяся мелодия «Лесной мельницы». Плавно стучали деревянные молоточки, гобой сонно и глухо переливал две-три ноты, повизгивали скрипки, мчалась, как бешеная, гитара, лукавая песня развертывалась все быстрее. Директор капеллы изредка поворачивал воловью шею к жене, жена конфузливо улыбалась, встряхивала головой, и вдруг, точно гигантский голубь начинал ворковать, прекрасный тирольский иодль вплетался в мелодию. Немцы отрывались от пива и сигар, смотрели певице в рот и от восторга покрывались испариной.