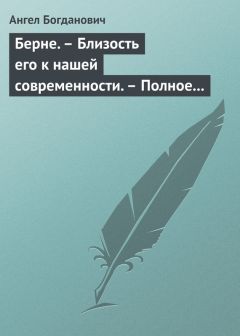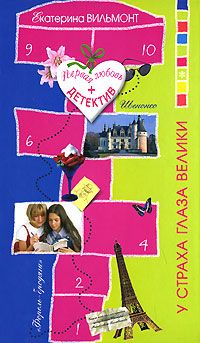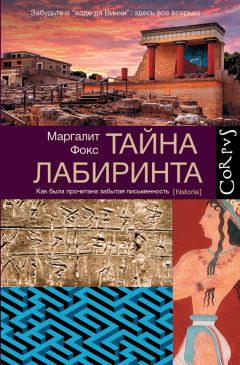— Такой крѣпкой водки и въ дорогихъ ресторанахъ не держатъ. У меня къ каждой настойкѣ спиртъ очищенный прибавляется. Ты знаешь-ли какая тутъ крѣпость?
— Да какъ не знать, сударь. Сейчасъ слышно. Это у васъ настой-то какой?
— Листовый. На черносмородиновомъ молотомъ листѣ.
— Садъ, совсѣмъ фруктовый садъ во рту, — умилялся мужикъ.
Охотникъ съѣлъ бутербродъ. Мужикъ, побродивъ около деревьевъ на полянкѣ, принесъ еще грибъ.
— Это, сударь, хоть и сыроѣшка, а грибъ хорошій. Возьмите и его, — сказалъ онъ, умильно взглянулъ на охотника и спросилъ:- Повторили по стаканчику-то?
— Думаю, не довольно-ли? Стаканчикъ довольно большой.
— Хромать будете объ одномъ стаканчикѣ, ваша милость. Нехорошо.
— Ты думаешь?
— А то какъ-же? Меньше двухъ охотники на привалѣ никогда и не пьютъ.
— Ну, будь по твоему.
— Егеря не забудьте, ваша милость. Егерь вамъ услужитъ. Вотъ-съ пожалуйте щавелій листочекъ на закуску.
Опять послѣдовала выпивка. Охотникъ съѣлъ три бутерброда и сталъ позѣвывать.
— Ты говоришь, версты двѣ до тетеревиныхъ-то выводковъ? — спросилъ онъ.
— Да пожалуй и больше будетъ, — отвѣчалъ мужикъ.
— Гмъ… Чортъ возьми, какъ здѣсь все далеко. Да есть-ли еще выводки-то?
— Есть, есть. Насчетъ этого будьте покойны. Помилуйте, вѣдь мы для господъ ихъ разыскиваемъ.
— Да можетъ быть ты съ пьяныхъ глазъ ихъ видѣлъ?
— Господи! Да что вы за невѣроятный человѣкъ такой! Трезвѣе вотъ этого гриба я былъ. Пожалуйте грибокъ… Положите въ сумочку. Это ужъ красненькій будетъ.
— Грибовъ много, а птицы нѣтъ, — зѣвнулъ охотникъ, пряча грибъ въ яхташъ. — А что ежели теперь обратно, на деревню, въ охотничью избу идти, ближе это будетъ, чѣмъ до твоихъ тетеревиныхъ выводковъ?
— Ближе, ваша милость, какъ возможно.
— Ну, а по моему разсчету, мы ужъ версты три прошли, а то и больше. Знаешь что? Не пойду я на выводковъ сейчасъ, а пойду послѣ обѣда. Пообѣдаю, посплю — и пойду. На телѣгѣ туда можно проѣхать?
— Можно, можно, сударь. Съ полверсты развѣ что пѣшкомъ идти придется.
— Ну, такъ вотъ ты мнѣ и телѣжку подряди, а теперь домой.
— Въ лучшемъ видѣ подряжу, ваша милость. Идемъ.
Охотникъ поднялся съ пня.
— Пожалуйте мнѣ ваше ружьецо-то. Чего его вамъ таскать! Пойдете вы полегоньку, будете грибки собирать.
— Да, да… Хорошо бы къ обѣду грибовъ двадцать набрать на жаркое. Хозяйка бы сжарила мнѣ ихъ.
— Наберемъ-съ, въ лучшемъ видѣ наберемъ. Супругѣ въ подарокъ еще свезете — вотъ сколько наберемъ. Теперь грибовъ много. Вотъ грибъ-съ… Да и какой большущій и ядреный!
Охотникъ и егерь возвращались въ деревню.
Хруститъ валежникъ подъ ногами, шелеститъ желтый опавшій листъ, посвистываетъ вѣтеръ между березовою и осиновою порослью. Пни, пни, гніющіе и поросшіе мохомъ пни безъ конца. Холодно, сыро. Сентябрь на исходѣ. Солнце то проглянетъ на минуту изъ-за тучъ, то опять скроется. Впереди бѣжитъ охотничья собака, останавливается и нюхаетъ воздухъ; понюхаетъ и опять побѣжитъ. Сзади слѣдуетъ баринъ въ охотничьемъ костюмѣ. Все на немъ новое, казовое, хорошее. Прелестная двустволка виситъ на плечѣ, у бедра пустой яхташъ и неизбѣжная франтовская фляжка съ привинченнымъ къ ея горлышку серебрянымъ стаканчикомъ. Рядомъ съ бариномъ идетъ красноносый гунявый мужиченко — егерь Панкратъ съ тульскимъ ружьемъ на плечѣ. На головѣ у него замасленный картузъ съ разорваннымъ пополамъ козырькомъ. Одѣтъ мужиченко въ какую-то рваную женскую кофту, опоясанную ремнемъ, изъ которой мѣстами видна вата. Панкратъ полупьянъ, ступаетъ стоптанными сапоженками нетвердо и говоритъ безъ умолку, сообщая барину разныя новости.
— А вчера вотъ тоже случай… Не думали и не гадали… Да и никогда этого у насъ въ нашей округѣ и не было. У Кокорихи въ усадьбѣ флагъ украли, — говорилъ онъ. — Кокорихину усадьбу знаете — такъ вотъ у ней. Вчера ихъ работникъ въ Сережинскомъ кабакѣ сказывалъ. Пришли, сняли съ мачты и увели. Ни въ жизнь у насъ этого не случалось, чтобъ у своихъ воровать. Чужихъ обворуютъ — это точно, а чтобы своихъ — ни Боже мой. И куда имъ флагъ? Впрочемъ, и то сказать: на кушакъ годится. Дозвольте, Алексѣй Павлычъ, папиросочку закурить.
Баринъ вынулъ портсигаръ, досталъ папиросу и подалъ.
— Набаловался я съ господами насчетъ папиросокъ. Своя-то трубка ужъ и не курится, — продолжалъ Панкратъ. — Право-слово. Да и вообще у насъ нонѣ… Господинъ Портяевъ ужъ на что мужчина строгій, за семью замками живетъ, а и у него съ недѣлю назадъ кучерской кафтанъ изъ сарая ушелъ. На солдатъ полагаютъ. Копали тутъ у него солдаты картошку. Испьянствовался нонѣ народъ, ужасти какъ — вотъ это отчего. Пьянства, да буянства такія пошли.
Баринъ улыбнулся, посмотрѣлъ на красносизый носъ Панкрата и сказалъ:
— Не тебѣ осуждать пьянство. Слѣпой кривому глазъ колетъ.
— Зачѣмъ такъ! Я, сударь, этому подверженъ, это точно, но я себя соблюдаю. Я егерь, мнѣ не выпить нельзя, потому должность у насъ такая треклятая, а чтобы дебоширить и драться я — упаси Боже. А вѣдь это что-же: вчера у Сдвиженскаго мужика духъ отшибли, губу разорвали — до того колотили. И изъ-за чего началось? Продалъ онъ попу улей, получилъ деньги, пришелъ въ кабакъ…
— Панкратъ! Да скоро-ли-же куропатки-то? — перебилъ его баринъ.
— Наведу, наведу. Вы, ваше благородіе, насчетъ куропатокъ не сумлевайтесь. Ваши будутъ. Дѣваться имъ некуда. Вотъ сейчасъ лядину пройдемъ, на сухое мѣсто ступимъ — тутъ онѣ и будутъ. Выводки прелесть. Вонъ ужъ собачка ихъ почуяла. Ахъ, то-есть и собака-же у васъ, Алексѣй Павлычъ!
— Да, это песъ добрый! — отвѣчалъ баринъ.
— Цѣны нѣтъ вашей собакѣ. Смотрите, какъ-бы не украли.
— Типунъ бы тебѣ на языкъ.
— Нѣтъ, я къ тому, что воровство-то нонѣ у насъ… На прошлой недѣлѣ ѣхалъ балахновскій сторожъ и сапоги новые везъ, заѣхалъ въ кабакъ въ Сережинѣ, пріѣзжаетъ домой пьяный — нѣтъ сапоговъ. Народъ-то ужъ нынче очень избалованъ сталъ.
— Не тебѣ осуждать. Ты, братъ, самъ избалованъ.
— Одначе я не ворую.
— Врешь. У Коромыслова щенка укралъ.
— Такъ вѣдь это я не для себя, а для Валентина Павлыча. А для Валентина Павлыча я не токма что щенка — ребенка уворую. Очень ужъ господинъ хорошій. Два рублика мнѣ за щенка-то пожертвовалъ. То-есть вѣрите, Алексѣй Павлычъ, до чего нонѣ народъ избалованъ! Тутъ вотъ у насъ въ четырнадцати верстахъ мужикъ Давыдка Ежъ есть. Ежъ онъ по прозванію. Такъ за двадцать четыре рубля жену свою барину-охотнику продалъ. Тотъ такъ и увезъ ее въ Питеръ. Теперь у него въ Питерѣ живетъ и въ браслеткахъ щеголяетъ.
— Скоро-ли куропатки?
— Да ужъ наведу. Будьте покойны. И такіе, сударь, выводки, что вы вотъ изъ этого самаго серебрянаго стаканчика два раза мнѣ поднесете за нихъ. Съ чѣмъ у васъ нонѣ фляжка, Алексѣй Павлычъ?
— Съ березовкой, — отвѣчалъ баринъ.
— Чудесная водка, пользительная. Кустикъ вотъ сейчасъ на бугоркѣ выбрать, на пенькѣ присѣсть первый сортъ. Жену свою продать! Ахъ, ты Господи! Ну, нешто не баловство это? Оттого тутъ у насъ и хлѣбопашество всякое упало. Катушкина знаете? Кривой такой. Нонѣ и не сѣялъ. Дочь отпустилъ въ куфарки, сыновья въ извозъ ѣздятъ — тѣмъ и питается. А ужъ и пьетъ-же!..
— Да вѣдь и ты не сѣялъ.
— Я? Я дѣло другое. Я егерь. Зачѣмъ мнѣ сѣять? Я отъ господъ питаюсь. Меня господа прокормятъ. Стаканчикъ поднесутъ, колбаски съ булочкой дадутъ на закуску — вотъ я и живъ. Да и не стоитъ сѣять-то нонѣ, ваше благородіе, будемъ говорить такъ. Вотъ я свои полоски старостѣ за девять рублей сдалъ и правъ. Чего мнѣ? Старуха моя брусникой да грибами заработаетъ. Корье нонѣ ее звали драть — и то не пошла… «Чего, я говорю, ты, дура, не идешь? Ступай! По крайности мужу на вино заработаешь». «Нѣтъ, говоритъ, Панкратъ Семенычъ, будете вы и отъ господъ сыты»… Вотъ старуха у меня облѣнилась, это точно. Она набаловалась — это дѣйствительно. Въ праздникъ безъ сороковки обѣдать не садится. Я-то по праздникамъ все съ господами на охотѣ, такъ ее и поучить хорошенько некому — вотъ черезъ это и избаловалась. Прежде она у меня и сѣяла и картошку сажала, а теперь вотъ что ты хочешь! «Зачѣмъ, говоритъ, Панкратъ, намъ сѣять? Сдаемъ мы за тридцать рублей въ лѣто избу господамъ-охотникамъ — вотъ мы и живы…»
— Смотри. Что это? — прошепталъ баринъ.
— Кажись, куропатка, — тихо отвѣчалъ Панкратъ.
Собака замерла и дѣлала стойку. Пауза. Раздался выстрѣлъ, за нимъ другой, наконецъ третій. Оба промахнулись. Птица захлопала крыльями и виднѣлась между голыми деревцами.
— Заряжайте скорѣй, Алексѣй Павлычъ, заряжайте, — говорилъ Панкратъ.
Баринъ вложилъ патронъ, но было уже поздно. Сталъ заряжать свое тульское ружьишко и Панкратъ.
— Какая досада! — говорилъ баринъ. — Какой тетеревъ здоровый былъ.