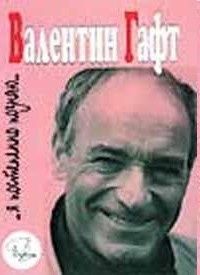– Дуров! Сегодня ты ударил своего товарища, завтра ты ударишь своего учителя, потом – меня, потом ты убьешь члена правительства, а потом начнешь бить стекла!
Все замерли. Тогда я мало чего понял. А вот позже, анализируя его тираду, до меня дошло: ну что такое член правительства? Ничто! А вот стекла после войны – это была великая проблема. Особенно – для директора школы.
Да, грандиозный был педагог наш директор!
Рядом с нами находился гарнизонный госпиталь, на котором почему-то было написано «Военная гошпиталь». Так вот мы, местные пацаны, ходили туда, чтобы хоть как-то, в меру своих возможностей, если не утешить страждущих, то хотя бы отвлечь их от горестных мыслей. Читали им книжки, пели и плясали перед ними – кто на что был способен. У нас среди раненых, несмотря на разницу лет, были настоящие друзья, которые делились с нами самым сокровенным, изливали перед нами душу.
Витек душу не изливал. Несчастье его было так велико, что для его выражения слов уже не хватало – оставалась лишь протяжная, выматывающая душу мольба о смерти.
Витек был истребителем. Сбили его как-то по-дурацки. Выполнил задание и возвращался домой. Шел на малой высоте. Снизу вслепую били зенитки. Шальной снаряд попал в Витькину машину и разорвался у него под задницей. Как дотянул до своих, как сел, как его вытащили из машины – ничего не помнил. Пришел в сознание только на третий день на операционном столе. Сквозь тошнотную дурноту услышал противный звук – кусочек металла упал в таз.
– Двадцать седьмой! – услышал он низкий женский голос. – Жопа как решето… – И через короткую паузу, раздумчиво: – А вот что с этим-то делать?.. Куда же он с таким пеньком? И морда у парня больно красивая… Тяжелых сегодня много?
– Трое, Фира Израилевна, – это уже девчоночий голос, как отметил про себя Витек.
– Скажи Василию Григорьевичу, – приказала Фира, – пусть сам их обработает. А я попробую пришить этому дураку его достоинство, там ведь не до конца перебито. Угораздило ж его… – И рассмеялась.
А потом Витек лежал в палате и соображал, что же с ним произошло. До конца сообразить ему помогли товарищи по палате. Его историю ему рассказывали с веселым хохотом и похабными подробностями. Оборжавшись до слез, говорили, что один солдат пожертвовал Витьке часть своего достоинства: кровь-то ведь сдают, так почему же этим не поделиться! Вот Фира и пришила ему эту надставку. Так что с войны он вернется с припеком.
Несмотря на разницу в возрасте, мы очень дружили с Витьком, и он мне, пацану, часто рассказывал о себе. Говорил, что есть у него невеста – самая красивая девчонка в районе. Показывал мне ее фотографию: смешное, курносое лицо. Но мне тоже казалось, что она действительно самая красивая на свете. Говорил, что у него есть тихая и добрая мама. А отца зарезал пьяный деревенский психопат. На Пасху напился и стал все крушить на своем пути. Витькин отец решил урезонить его по-хорошему. Тот и впрямь будто послушался. А потом вдруг ударил сзади Витькиного отца ножом. Да и попал точно между ребер в сердце. Отец сел на землю и тихо сказал:
– Дурак же ты, Феденька… – И умер.
Мать так и не вышла второй раз замуж. Не захотела, хоть и сватались многие. А по ночам Витек слышал, как она давилась слезами…
Витек очень любил поговорить со мной. Я понимал, что ему нужен слушатель, который бы смог разделить с ним его боли и печали и не посмеялся бы над ними. Я был как раз таким слушателем.
Витек не переставал говорить о своем идиотском ранении, о Фириной жалости, о невероятной по тем, а может и по сегодняшним временам операции. И очень волновался: как все будет, когда заживут его интимные раны. Однажды Витек сказал, что его собираются выписывать, но хрен-то он тронется с места, пока не убедится, что все у него в порядке. Я толком не соображал, о каком порядке идет речь, но понимал, что для Витька это важнее жизни.
– А нет – застрелюсь к едрене-фене, – шептал он мне на ухо. – Чтоб я к Вере говном явился?! «Вальтер» у меня в клумбе закопан.
Тогда у многих в госпитале было оружие. Его приматывали бинтами под кальсоны. Я первый по разговорам и слухам узнавал, когда будет «шмон», и всех предупреждал. Они быстро отбинтовывали свои «ТТ», «браунинги», «вальтеры», и я их в охапке, как дрова, уносил в сад и закапывал под яблоней. У меня там был тайник. А Витек свой «вальтер» закопал сам, и я знал, что он точно застрелится, если не будет «порядка».
И вот как-то Витек отозвал меня в сторону и сказал, что Фира сама предложила ему убедиться, что не зря она возилась с ним целых три с половиной часа.
– Я, говорит, – шептал мне Витек, – сама его вернула к жизни, сама и опробую. Договорился я с Фирой. Понял? Завтра, говорит, садись в общую очередь на прием и жди вызова. Во дает Фира!
Фира Израилевна была огромной и красивой. Этакая огненно-рыжая валькирия. Как говорили о ней раненые, сначала в палату минут пять Фирина грудь входит, а уж потом она сама. Фира не стеснялась в выражениях. Говорила громко и гулко. Хирургом она была потрясающим.
О чем она тогда с Витьком договорилась, я опять же толком не понял, но чувствовал, что это очень важно для него и что это – тайна для всех. Только мне доверил свою тайну Витек, и я должен держать язык за зубами.
На следующий день я с трудом досидел в школе последний урок. В госпиталь бежал бегом. Поскорее хотелось узнать, как дела у моего. Очень мне не хотелось, чтобы он застрелился.
В госпитале творилось что-то странное. Врачи бегали по коридорам и орали на раненых:
– Прекратите ржать, немедленно прекратите ржать!
– Пожалейте хоть сами себя! Швы у вас, у идиотов, разойдутся! Черт бы вас побрал!
Громче всех грохотала Фира:
– Молчать! Палец им покажи, коблам! Я вас заново сшивать не собираюсь. – Но сама, не выдержав, закатилась в припадке хохота: – Ох, вот дура! На свою голову… Ох! Ох! – И, схватившись за живот, убежала к себе.
– Иди к своему – он там зубами всю подушку порвал, – сказал мне кто-то. – Ну, Фира! – И, лязгнув золотыми зубами, взвыл по-собачьи, замахал, как ребенок, руками. – Не могу! – И скрылся в сортире.
Я вошел в палату. На кровати сидел серый Витька.
– Ты что, Витек?
– Пойдем, – сказал он. – Давай лучше в окно, а то они опять начнут…
Мы вылезли в сад, сели на траву.
– Понимаешь, Швейк (такое было у меня прозвище), я сделал, как уговорились. Сел со всеми в коридоре. Жду. Вызывает. «Ну, пришел, красавец? Давай проверим результаты усилий отечественной медицины. Раздевайся». Снял я пижаму за ширмой. «Выходи», – говорит. Вышел я, а она как распахнет халат, и вся голая. У меня аж горло перехватило. Я и не чувствую ничего, а она говорит: «Ну вот, Витюша, все у тебя в порядке, я после войны на тебе диссертацию защищу. Ну, счастливо! Невесте – привет». Запахнула халат, взяла меня за загривок, дала под зад, я и вылетел в коридор. Только я не заметил, что она мне пижаму на «хозяйство» повесила. Так я и дошел до палаты с пижамой на… А в коридоре-то народу полным-полно… Ну и началось! Сволочи!
– Витек, да пусть ржут. Главное-то – все в порядке.
Витька посмотрел на меня своими огромными голубыми глазами, упал навзничь в траву и зашелся в хохоте:
– Ну, Фира! «Невесте – привет»! А пижаму-то… А я-то по всему коридору… С пижамой… А в коридоре-то полно… А?! А я с пижамой… Во кино!
Через несколько дней Витька выписали. Провожать его высыпал весь госпиталь. Никто не смеялся, только улыбались. Витек бросил вещмешок в кузов грузовика и сам ловко запрыгнул в него. Машина тронулась. Вдруг Витек метнулся к кабине и забарабанил по ней:
– Стой! Стой!
Он смотрел куда-то вверх. Все повернули головы. В окне третьего этажа стояла огненная Фира и улыбалась. Витек уехал. В отпуск. По ранению.
Честно скажу – никогда ничего не воровал, кроме угля, в те трудные годы. Однажды, когда мне пришлось переть два ворованных ведра (родителям говорил, что их зарабатываю), я вдруг уперся лицом в пряжку. Это оказался наш участковый, который сказал слова, которые я запомнил на всю жизнь: «Вот идет Дуров, сгибаясь под тяжестью улик». Он взял у меня ведра, дотащил до нашего крыльца и добавил: «Аккуратней!».
В юности я часто посещал 29-е отделение милиции. Мы однажды возвращались с катка, и вот тогда я впервые в жизни выпил. А не выпить было нельзя: вокруг взрослые ребята, и они предлагают. Если ты не выпьешь, то ты тогда – никто. И я выпил. А при подходе к Лефортовской площади, где я жил, завязалась серьезная драка. И я тоже принимал в ней участие, но пассивное, так как я был пацан. Помню, приехали патрульные машины, всех похватали. А меня не забрали, как маленького. Я собрал все коньки, что валялись на площади и поплелся домой. Бросил коньки на пол, вошла мама: «Что с тобой?» Я родителям никогда не врал и говорю: «Я выпил». Она позвала отца. Я рассказал, что была драка и всех забрали в милицию, кроме меня. Отец выяснил, что я тоже дрался и в воспитательных целях отправил меня в отделение. И я пошел в отделение. Вышел дежурный. Я ему сказал, что отец меня домой не пускает, так как я выпил и тоже дрался. Дежурный сжалился: «Ну иди, ночевать где-то надо. Холодно на улице». И отвел меня в камеру к ребятам. Так я провел ночь после первой своей рюмки как заключенный.