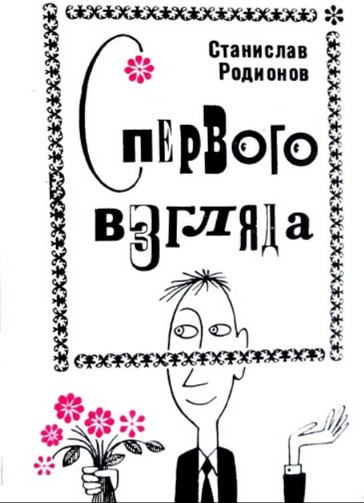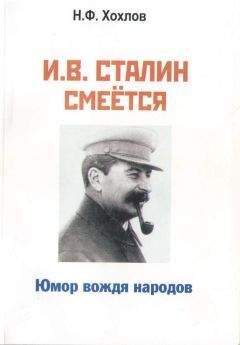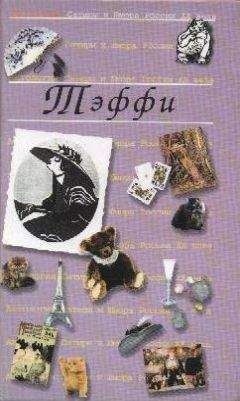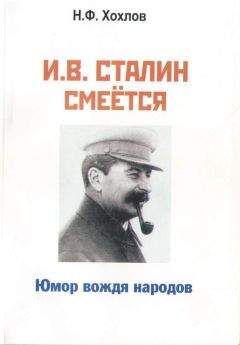— спрашиваю я, вспомнив советы других женщин.
— Что вы! Рваные я сразу выбрасываю.
— А у меня очень щекотливое положение. Гаражу три года, «Волге» шесть лет, а Дездемона пошла в первый класс. Как с мужем разделиться — представления не имею, — сказала о любви вторая.
Аленка стоит около собачки. Я не вижу ее глаз, но хорошо их представляю. Это что-нибудь удивленно синее и огромное. Покажи ей сейчас красивую нормальную собаку, она даже не обратит внимания, а весь день будет ходить за этим гибридом.
— Вот он! — говорит первая.
— Да, это он, — подтверждает вторая.
— Неужели он? — удивляюсь я, ибо в этой хилой собачке нет ничего мужественного.
— О, это идеальный мужчина!
Я озадаченно смотрю на песика.
— Да вон там! — руками показывают женщины.
К нам подходит человек с благостно-довольным лицом. За руки он ведет двух совершенно одинаковых детей.
Мы осторожно знакомимся. Он вкусно рассказывает, что в науке трудится пятнадцать лет, с женой в браке — десять, а кандидатскую уже защитил. У меня ощущение, что я скольжу по гладкому льду, где совершенно не за что зацепиться.
Мы говорим о детях. Его девочки занимаются английским языком, фигурным катанием и музыкой. Гуляет он с ними по воскресеньям, а в будни пишет докторскую.
Из кратких вставок женщин я понял, что их мужья тоже пишут диссертации, а дети занимаются английским, фигурным и музыкой.
Аленка все ходит за необычной собачкой. И чего она в ней нашла?
— Скажите, — обращаюсь я к нему, — а вам не хочется чего-нибудь такого?
— Какого такого?
— Ну... забраться на крышу и прыгнуть?
— Извините, я знаю свою норму и не напиваюсь.
— А скажем, ударить кого-нибудь?
— Кого?
— Например, дурака.
— Не хочется, — обрубает он и берет девочек за руки.
— Извините, вы никогда не будете ученым, — сообщаю я.
— Это почему?
— Потому что вы знаете свою норму.
Он обиженно уводит девочек в другой угол двора.
Мы с Аленкой еще долго бродим по улицам. Начинается дождик, и все разбегаются. Мы стоим под балконом. Крупные капли взбивают на асфальте пыль.
— Папа, а на асфальте веснушки!
Их все больше и больше, пока серая панель совсем не темнеет. Неистово пляшут струи, подкатываясь под наши ноги мутными потоками. Мелкие брызги оседают на Аленкины волосы легкой изморосью. Я заглядываю ей в глаза — там в радости пляшет дождик.
После ливня мы ходим по лужам, строим плотину, делаем озеро, копаем канал и уже в темноте возвращаемся домой.
Перед дверью Аленка хватает меня за руку, показывает на небо и шепотом говорит:
— Смотри, золотой ноготок...
Я смотрю вверх — над нами висит тонкий желтый месяц.
После еды усталая Аленка подходит ко мне. У нее слипаются глаза, и она не в силах притащить все книжки, но про Фому все-таки приносит.
Фома — это упрямый мальчишка, который никогда и никому не верил, пока сам не убеждался. Ему говорят, что наступила зима и велят одеться, а Фома выходит на улицу в трусах. Он даже не верит, что перед ним слон. Кончается все печально. Сомнения и упрямство приводят спящего Фому в пасть крокодила. Но он и сну не верит. Книжка кончалась советом найти подобного Фому и все это прочитать ему для назидания.
Вдруг меня удивляет: почему Аленка так любит стихи про плохого мальчишку? Почему она не выбрала себе в друзья Красную шапочку, Муху-Цокотуху или пай-мальчика... И почему из всех плохих она выбрала Фому, а не Серого волка, Карабаса-Барабаса или мальчишку-хулигана...
— Аленка, — говорю я, — а ведь Фома-то плохой.
— Плохой?! — изумляется она, и сон отпускает веки, как лопнувшая пружина дверь. Глаза опять становятся большими и круглыми, будто они увидели солнце.
— Если плохой, почему я его люблю? — спрашивает Аленка.
Я молчу и бегаю глазами по стенкам. Мне пришлось ответить на сотни ее вопросов. Я даже отвечал, что такое дезоксирибонуклеиновая кислота и зачем люди курят...
Но как объяснить, почему ей нравится Фома? Как объяснить, что из таких мальчишек вырастают мыслители, борцы и космонавты?. Как объяснить, что Фома будет настоящим человеком?
Он приходил в книжный магазин каждое воскресенье. Гнутая спина, седые волосы век не причесывались, очки перевязаны, а на потертом пиджаке обязательно висела белая нитка. Если он опаздывал, мне казалось, что в магазин не поступила какая-то книга.
Старик подходил к полкам, проводил пальцами по корешкам, как по клавишам, ловко вытаскивал том и прятал лицо в страницы. Острый нос судорожно нырял между листами, будто выклевывал семечки. Мы не сказали друг другу ни слова, да он никого и не замечал.
Но в прошлое воскресенье старик вытащил толстую книгу из восьмитомника и, раздвигая людей руками, как назойливые кусты, неожиданно подошел ко мне. Он был растерян:
— Посмотрите, кого уценили.
Я взял книгу, прочел автора и погладил рукой переплет:
— Да, вдвое. У меня он есть.
— У меня тоже, но обидно за автора.
Мы посмотрели друг на друга.
— Кто возьмет? — спросил старик и поправил ломаные очки.
— Давайте я.
Мне завернули восьмитомное собрание. Старик отошел к полке и спокойно заклевал тоненькую книжку.
Сегодня воскресенье, но в магазин я не пошел. Утром позвонила Татьянка:
— Приходи к четырем. Будет общество.
Обычно вечерами мы бегали в кино, но она давно собиралась познакомить меня со своими друзьями.
Ровно в четыре я стоял в передней. Татьянка, прекрасная, как одна из классических богинь, наскоро чмокнула меня и ввела в комнату. За столом сидело человек десять. От неожиданности я отвесил три земных поклона на три стороны, после чего мне дали салату. Я жадно огляделся.
Книга мало отличается от человека. Она хороша тем, что ее можно вовремя захлопнуть, а человека часто приходится дочитывать. Сегодня мне хотелось пробежать по страничке из каждого тома.
Прямо передо мной сидела красивая осанистая дама, нечто среднее между королевой и официанткой. Торт стоял перед ней.
— Кто это? — спросил я Татьянку.
— Жена самого Волобуева, — ответила она восхищенно.
Я не знал, кто такой Волобуев, но мне тоже стало приятно.
— А Червочкину видели? Ноги у нее синие,