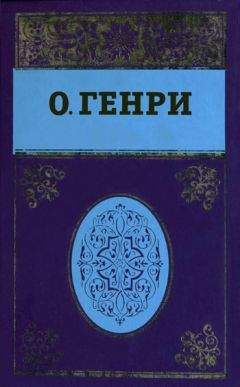— Если сеньор будет так добр… Тысяча извинений за беспокойство… но скоро придут покупатели… покупать провизию… Десять тысяч горьких сожалений, что пришлось потревожить сеньора!
В таком стиле они возвещали ему, что он должен убраться и не тормозить колес торговли.
Блайт покинул галерею с видом принца, покидающего осененное великолепным балдахином ложе. Этого вида он не терял никогда, даже в периоды самого глубокого падения. Всякому ясно, что курс нравственности не обязателен в программе аристократического образования.
Блайт почистил свой измятый костюм и медленно зашагал по горячим пескам Калье Гранде. Куда он идет, он не знал. Городок лениво предавался своим повседневным занятиям. В траве копошились младенцы с золотистыми телами. Морской ветер навеял ему аппетит, но не навеял средств для утоления оного. Как всегда по утрам, Коралио был полон тяжелым запахом тропических цветов, и запахом печеного хлеба, приготовляемого тут же, на улице, и запахом дыма от глиняных печек/ В тех местах, где не было дыма, виднелись горы, и казалось, что хрустальный воздух, обладая могуществом евангельской веры, придвинул их почти к самому морю, — придвинул так близко, что можно было сосчитать все скалистые прогалины на покрытых лесами склонах. Легконогие карибы спешили на берег к ежедневным трудам. Уже среди кустов, по тропинкам, медленно спускались лошади одна за другою — от банановых плантаций к морю. Видны были только их головы да ноги. Все остальное было прикрыто огромными связками золотисто-зеленых плодов, свешивающихся у них со спины. На порогах сидели женщины и расчесывали длинные черные волосы, перекликаясь друг с другом через узкую улицу. В Коралио царил покой — скучный, выжженный зноем, но все же покой.
В это яркое, ясное утро, когда Природа, казалось, подавала лотос забвения на золотой тарелке Рассвета, Блайт-Вельзевул докатился до дна. Дальше падать было уже некуда. Ночевка на базаре опозорила его окончательно. Покуда у него над головой был кров, все еще оставалось что-то, отличающее джентльмена от лесного зверя и птиц поднебесных. Но теперь он — жалкая устрица, которую ведут на съедение по песчаному берегу Южного моря хитрый Морж — Случай и безжалостный Плотник — Судьба.[13]
Деньги давно уже были для Блайта легендой. Он выкачал из своих приятелей все, что их дружба могла ему дать; потом он выжал до последней капли то, что могло дать ему их великодушие, и, наконец, подобно Аарону, выбил из их затвердевших сердец, как из камня, скудные капли унизительной милостыни.
Он истощил свой кредит до последнего реала. С той ясной отчетливостью, которая отличает ум потерявшего стыд паразита, он знал наперечет все места в Коралио, где можно раздобыть стакан рома, порцию съестного, серебряную монетку. Теперь он перебирал в уме все эти источники благ, вникая в них с тем прилежным вниманием, которое дается лишь жаждой и голодом. Весь его оптимизм не мог найти ни зерна надежды в мякине его жизненных планов. Игра сыграна. Эта ночевка на улице доконала его. До сих пор он мог просить взаймы. Теперь он может только попрошайничать. Самая наглая софистика бессильна была бы назвать возвышенным именем ссуды монету, небрежно швыряемую в лицо шалопаю, который ночует на голых досках базара.
Но в это утро он, как последний нищий, с благодарностью принял бы любое подаяние, ибо демон жажды схватил его за горло, — демон утренней жажды привычного пьяницы, требующей утоления на каждой станции по пути в геенну огненную.
Блайт медленно шел по улице, зорко высматривая какое-то чудо, которое пошлет манну в его пустыню. Проходя мимо простонародной харчевни мадамы Васкес, он увидел, как завсегдатаи этой харчевни сидят за столом и поглощают ломти свежеиспеченного хлеба, авокадо, ананасы и очаровательный кофе, аромат которого свидетельствовал о его отменных достоинствах. Мадама прислуживала за столом; отвернувшись на мгновение к окну и кинув на улицу робкий, бессмысленный, меланхолический взор, она увидела Блайта; взгляд ее стал еще более смущенным и робким. Вельзевул был должен ей двадцать песо. Он поклонился ей так, как некогда кланялся менее робким дамам, которым ничего не был должен, и пошел дальше.
Купцы и их подручные открывали массивные деревянные двери магазинов. Вежливы, но холодны были их взоры, когда они смотрели на Блайта, как он гордо шагает по улице с остатками своей прежней элегантной осанки, потому что они все без изъятия были его кредиторами.
На площади у фонтана он совершил туалет при помощи смоченного в воде носового платка.
По площади тянулась печальная вереница людей. То были друзья заключенных в тюрьме; они несли арестантам их утренний завтрак Пища не возбудила в Блайте никаких вожделений. Ему нужна была не пища, но выпивка или монета для ее приобретения.
По дороге ему встретилось немало людей, которые некогда были его друзьями и близкими. Но у всех у них он уже истощил и терпение и щедрость. Уиллард Джедди и Паула проскакали мимо него, возвращаясь с ежедневной прогулки верхом по старой индейской дороге, и ответили ему самым холодным поклоном. На другом углу ему встретился Кьоу, который шел, весело насвистывая и неся, словно приз, свежие яйца на завтрак себе и Клэнси. Лихой искатель счастья был одной из жертв Блайта; чаще всех он опускал руку в карман, чтобы дать Вельзевулу подачку. Но теперь оказалось, что даже он забаррикадировался против дальнейших вторжений. Его небрежный поклон и зловещий блеск в серых больших глазах заставили Вельзевула ускорить шаги, хотя за минуту до этого он помышлял о добавочном «займе».
После этого злосчастный отверженец посетил три пивные одну за другой. Во всех трех его деньги и его кредит давно уже были истрачены; но сегодня Блайт готов был валяться в ногах у самого лютого врага за один глоток aguardiente. В двух пульпериях его дерзкие просьбы встретили такой учтивый отказ, что эта учтивость показалась обиднее ругани. Третье заведение усвоило себе американские методы: посетителя схватили за шиворот и дали ему такого пинка, что он вылетел на улицу и упал на колени.
Физическое оскорбление изменило его самым неожиданным образом. Когда он встал с колен и пошел дальше, весь облик его выражал полное и абсолютное спокойствие. Та искательная и притворная улыбка, которая словно застыла у него на лице, сменилась упорной и злобной решимостью. До сих пор Вельзевул барахтался в море бесчестия, держась за веревочку, которая соединяла его с порядочным обществом, вышвырнувшим его за борт. И вот он почувствовал, что эту веревочку внезапно выдернули у него из рук, и на него снизошло то блаженное спокойствие духа, которое испытывает всякий пловец, когда, утомившись бороться с волнами, он видит, что ему осталось одно: утонуть.
Блайт отошел к ближайшему углу, счистил там со своего костюма песок и протер стекла пенсне.
— Ничего другого не осталось, — сказал он вслух самому себе. — Будь у меня бутылка рома, я бы подождал еще немного. Но для Вельзевула, как они называют меня, рома нет больше нигде. Клянусь пламенем Тартара… Если меня сажают по правую руку самого сатаны, кто-нибудь должен платить за эту царственную роскошь. Придется расплачиваться вам, мистер Франк Гудвин. Вы славный малый, я знаю, но нельзя же, чтобы джентльмена выбрасывали из питейной на улицу. Шантаж — нехорошее слово, но шантаж есть ближайшая станция на той дороге, по которой я теперь путешествую.
Решительной поступью Блайт зашагал через город, держась наиболее удаленных от моря окраин. Он миновал грязные домишки беззаботных негров и живописные лачуги беднейших метисов, по пути он то и дело, со многих улиц, видел сквозь тенистые просеки дом Франка Гудвина в роще на холме. И когда он шел по мостику через болото, он видел старого индейца Гальвеса, скребущего деревянную колоду, на которой было выжжено имя президента Мирафлореса. За болотом по склону горы начинались владения Гудвина. Заросшая травой дорога вилась от края банановой рощи к дому. Тропические деревья самого разнообразного вида давали ей обильную тень. Блайт пошел по этой дороге, шагая широко и решительно.
Гудвин сидел на той галерее, где было прохладнее, и диктовал письма своему секретарю, местному уроженцу, способному юноше с болезненно желтым лицом. В доме завтракали по-американски — рано. Прошло уже больше получаса с тех пор, как Гудвин встал из-за стола.
Отверженный подошел к ступенькам и помахал рукой.
— Доброе утро, Блайт, — сказал Гудвин. — Входите и садитесь. У вас есть ко мне дело?
— Мне нужно поговорить с вами наедине.
Гудвин сделал знак секретарю; тот вышел в сад, стал под манговым деревом и закурил папиросу. Блайт сел на освободившийся стул.
— Мне нужны деньги, — сказал он отрывисто и хмуро.
— Извините, пожалуйста, — сказал Гудвин, — но денег я вам не дам. Вы сопьетесь до смерти. Ваши друзья делали все, что могли, чтобы поставить вас на ноги, но их помощь шла вам во вред: вы сами губили себя. Больше денег вам давать нельзя.