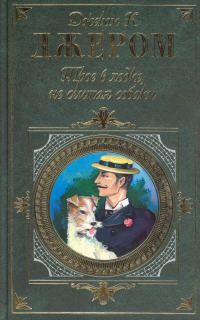Усталые и проголодавшиеся, мы видели себя в лодке, видели темную реку, бесформенные деревья и под ними наше милое суденышко, похожее на огромного светляка, такое уютное, теплое и веселое. Мы воображали, что сидим за ужином и пожираем холодное мясо, передавая друг другу огромные ломти хлеба. Мы слышали веселый стук ножей и оживленные голоса, оглашающие мрак ночи. И мы спешили, чтобы увидеть все это наяву.
Наконец мы вышли на реку, и это развеселило нас. До этого мы не знали, приближаемся мы к реке или уходим от нее, а когда устанешь и хочется спать, такие сомнения раздражают.
Когда мы проходили через Скиплэк, часы пробили без четверти двенадцать. Вскоре после этого Джордж задумчиво спросил:
— Ты не помнишь, у которого острова мы остановились?
— Нет, не помню, — ответил я, тоже становясь серьезным. — А сколько их вообще?
— Всего четыре, — ответил Джордж. — Если он не спит, все будет в порядке.
— А если спит? — спросил я.
Но мы прогнали от себя такие мысли.
Поравнявшись с первым островом, мы крикнули, но ответа не было. Тогда мы перешли ко второму и повторили свою попытку. Результат был тот же.
— Ах да, я вспомнил, — сказал Джордж. — Это третий остров. Полные надежд, мы побежали к третьему острову и крикнули. Никакого ответа.
Положение становилось серьезным. Дело было за полночь. Гостиницы в Скиплэке и Хэнли, несомненно, переполнены. Не могли же мы ходить по городу и стучаться посреди ночи к жителям, спрашивая, не сдадут ли они комнату. Джордж предложил вернуться в Хэнли и напасть на полисмена, это обеспечит нам ночлег в участке. Но у нас возникло опасение: а вдруг полисмен просто даст нам сдачи и откажется нас арестовать?
Мы не могли всю ночь драться с полисменами. Кроме того, нам не хотелось перехватить через край и получить шесть месяцев тюрьмы.
В отчаянии мы подошли к тому, что казалось в темноте четвертым островом, но результат был не лучше. Дождь полил сильнее и, видимо, зарядил надолго. Мы промокли до нитки, озябли и совсем пали духом. Нам начало казаться, что, может быть, островов не четыре, а больше, что мы находимся вовсе не у островов, а за милю от того места, где нам следует быть, или даже в другой части реки. В темноте все выглядело так странно и незнакомо. Мы начали понимать переживания детей, заблудившихся в лесу.
И вот, когда мы уже потеряли всякую надежду… Да, я знаю, в сказках и в романах все перемены происходят именно в этот момент, но я ничего не могу поделать. Приступая к этой книге, я решил быть строго правдивым во всем и не изменю этому, даже если бы мне пришлось прибегать к избитым оборотам. Это действительно случилось тогда, когда мы потеряли надежду, и я должен так выразиться.
Итак, когда мы потеряли всякую надежду, я внезапно заметил несколько ниже нас какой-то странный, необычный огонек, который мерцал среди деревьев на противоположном берегу реки. Сначала я подумал о духах — это был такой призрачный, загадочный огонек, — но через минуту меня осенила мысль, что это наша лодка, и я испустил дикий вопль, от которого, наверное, сама ночь перевернулась в постели.
Мы ждали, затаив дыхание, и вдруг — о божественная музыка ночи! — послышался ответный лай Монморенси. Мы снова крикнули — достаточно громко, чтобы разбудить семь спящих отроков[6] (кстати, я никогда не мог понять, почему требуется больше шума, чтобы разбудить семь спящих, чем одного), и через пять минут, которые показались нам вечностью, мы увидели, что освещенная лодка тихо ползет во мраке, и услышали сонный голос Гарриса, который спрашивал, где мы.
С Гаррисом творилось что-то странное. Это было нечто большее, чем обычная усталость. Он подвел лодку к берегу в таком месте, где нам совершенно невозможно было в нее сесть, и немедленно заснул. Потребовалось много крику и возни, чтобы снова разбудить его и несколько привести в разум. Но наконец нам это удалось, и мы благополучно влезли в лодку.
Тут мы заметили, что лицо у Гарриса грустное. Он был похож на человека, который пережил крупные неприятности. Мы спросили, не случилось ли чего, и Гаррис сказал:
— Лебеди.
Оказывается, наша лодка была причалена возле гнезда лебедей, и, после того как мы с Джорджем ушли, прилетела самка и подняла скандал. Гаррис прогнал ее, и она скрылась и вскоре возвратилась со своим мужем. По словам Гарриса, он выдержал с этой парой лебедей настоящую битву. Но в конце концов храбрость и искусство взяли верх, и он обратил их в бегство. Спустя полчаса они возвратились, и с ними еще восемнадцать лебедей. Судя по рассказу Гарриса, сражение было ужасно. Лебеди пытались вытащить его и Монморенси из лодки и утопить. Он четыре часа героически отбивался и подшиб всех лебедей, и они уплыли, чтобы умереть спокойно.
— Сколько, ты говоришь, было лебедей? — спросил Джордж.
— Тридцать два, — сонно ответил Гаррис.
— Ты только что сказал — восемнадцать, — заметил Джордж.
— Ничего подобного, — проворчал Гаррис, — я сказал двенадцать. Ты что, думаешь, я не умею считать?
Истинную правду об этих лебедях мы так никогда и не узнали. Утром мы спрашивали об этом Гарриса, но Гаррис сказал: «Какие лебеди?» — и, по-видимому, решил, что нам с Джорджем это приснилось.
О, как приятно было после всех наших испытаний и страхов чувствовать себя в безопасности на лодке! Мы с Джорджем основательно поужинали и охотно выпили бы грогу, если бы могли найти виски. Но мы не нашли его. Мы спросили Гарриса, что он с ним сделал, но Гаррис, видимо, не понимал, что означает слово «виски» и о чем мы вообще говорим. Монморенси сидел с таким видом, будто он что-то знает, но не хочет сказать.
Эту ночь я спал хорошо, и мог бы спать еще лучше, если бы не Гаррис. Я смутно помню, что просыпался за ночь не меньше десяти раз из-за Гарриса, который ходил по лодке с фонарем и разыскивал свое платье. Он, видимо, всю ночь беспокоился о своем платье.
Два раза он расталкивал меня и Джорджа, чтобы посмотреть, не лежим ли мы на его брюках. На второй раз Джордж пришел прямо-таки в бешенство.
— Зачем тебе, черт возьми, понадобились посреди ночи брюки? — с негодованием воскликнул он. — Чего ты не спишь?
Проснувшись в следующий раз, я увидел, что Гаррис не может найти свои носки. Последнее, что я смутно помню, это ощущение, что меня перекатывают с боку на бок, и бормотание Гарриса, который не мог понять, куда запропастился его зонтик.
Хозяйственные обязанности. — Любовь к работе. — Старый гребец, его дела и рассказы. — Скептицизм молодого поколения. — Первые воспоминания о поездках на лодке. — Управление плотом. — Стильная гребля Джорджа. — Старый лодочник и его метода. — Неторопливость и спокойствие. — Новичок. — Плаванье с шестом. — Печальное происшествие. — Радости дружбы. — Мой первый опыт с парусом. — Почему мы не утонули.
Утром мы проснулись поздно и по настоятельному требованию Гарриса удовольствовались незатейливым завтраком, «без деликатесов». Потом мы вымыли посуду и все убрали на место (эта ежедневная работа как будто помогает мне разрешить вопрос, который часто ставил меня в тупик: каким образом женщина, имеющая на руках всего одну квартиру, ухитряется убить время?). В десять часов мы пустились в дорогу, решив пройти за день как можно больше.
Мы сговорились идти с утра на веслах, вместо того чтобы тянуть бечеву. Гаррис высказал мнение, что лучше всего будет, если я и Джордж станем грести, а он — править рулем. Я сказал, что Гаррис проявил бы больше благоразумия, если бы взялся вместе с Джорджем поработать, а мне дал бы отдохнуть. Мне казалось, что я работаю больше, чем мне по справедливости полагается, и я глубоко это переживал.
Мне всегда кажется, что я работаю больше, чем следует. Не думайте, что я уклоняюсь от работы. Я люблю работу. Работа увлекает меня. Я часами могу сидеть и смотреть, как работают. Мне приятно быть около работы: мысль о том, что я могу лишиться ее, сокрушает мое сердце.
Мне нельзя дать слишком много работы — набирать работу сделалось моей страстью. Мой кабинет до того завален работой, что там не осталось ни дюйма свободной площади. Мне скоро придется пристраивать новый флигель.
Я очень бережно отношусь к моей работе. Часть работы, которая лежит у меня теперь, находится в моем кабинете уже многие годы, и на ней нет ни пятнышка. Я очень горжусь моей работой. Иногда я снимаю ее с полки и сметаю с нее пыль. Я, как никто, забочусь о ее сохранности.
Но хотя я жажду работы, мне все же хочется быть справедливым. Я не прошу больше того, что приходится на мою долю. А мне дают больше — так мне, по крайней мере, кажется, и это меня огорчает. Джордж говорит, что мне не стоит об этом тревожиться. Он считает, что только моя чрезмерная щепетильность заставляет меня бояться, что я имею больше работы, чем нужно. На самом деле мне не достается и половины того, что следует. Вероятно, он говорит это для того, чтобы меня утешить.