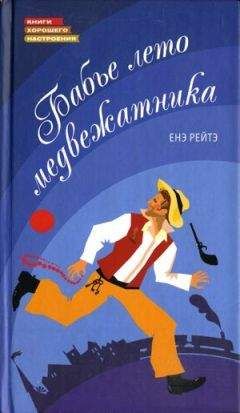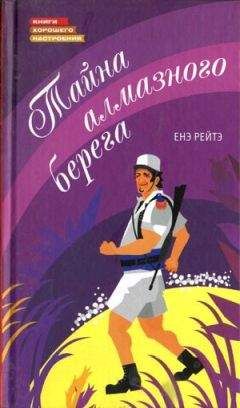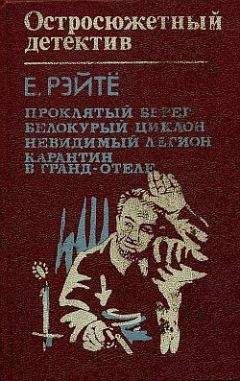Разумеется, для горожан все эти разрозненные факты не выстраивались в стройную систему, филиппонцы твердо знали одно: их шахта под угрозой, а сами они – в руках у Прентина, творящего произвол…
– Надеюсь, теперь страсти улягутся, – задумчиво произнес Пенкрофт. – Лично я вижу всего лишь одну причину для недовольства, зато серьезную. Вот уже двадцать минут, как я заказал седло барашка, а его все не несут. По-моему, на том свете таких порядков нет и в заводе: а если же и случаются промашки, то никого это не выводит из себя. Ведь не станешь же угрожать повару, что с завтрашнего дня будешь столоваться у конкурента на каком-нибудь другом том свете… Ага a вот и заказанное мной блюдо!
Бесчисленные тосты, здравицы в честь Бенджамина Вальтера, звон бокалов, всеобщее веселье… Под шумок к герою дня подошел парень, прежде баловавшийся игрой на губной гармонике, но теперь отдавший предпочтение более шумным инструментам – двум мощным автоматическим пистолетам.
– Эдгар и Билл ждут тебя у выхода. Не бойся, я с тобой!
– Передай им, что сперва я должен отужинать! – с досадой отказался Пенкрофт. – Пусть пока почитают газеты.
Собравшиеся потребовали от него ответной речи, и Пенкрофт, напустив на себя важный вид, заговорил. Начал с того, что в городе его знают с малых лет и, видимо, согласятся, что он оправдал надежды своих сограждан. Солидные отцы города и впрямь согласно закивали, а оратора понесло по проторенной дорожке: благополучие и честь города, Прентин, Вуперин, Монтагезза, император Максимилиан… С последним он, правда, не был лично знаком, зато преданностью его соратников восхищается…
Черт знает что! Какие гладкие, пламенные речи срывались с его уст, когда он, сидя верхом на коне, обращался к народным массам, а сейчас мелет всякую ерунду, ни одна дельная мысль на ум не приходит. Впрочем, постойте! Пенкрофт вытер вспотевший лоб и внес предложение воздвигнуть в городе хотя бы бюст императору Максимилиану, поскольку даже немыслимо предположить, чтобы в Филиппоне взяли и за здорово живешь казнили столь достославного джентльмена. Нет, в их городе этого нельзя представить! В смысле не джентльмена, а подлую казнь… И в результате равианцы возникают, рудник им подавай!.. У каждого должен быть свой рудник, то бишь работа, потому как без труда не вынешь рыбку из пруда… Уф, ну и духотища в зале! Но прежде чем распахнуть окно, он хотел бы пожелать, чтобы филиппонцы постарались жить честь по чести, без грабежей, пьянства и потасовок, как и положено порядочным людям. За это он и поднимает свой бокал!
Речь его не вызвала у застольников энтузиазма. Совершенно истощив запасы своего красноречия, Пенкрофт сел, а когда все подняли бокалы, заявил, что сегодня больше пить не будет. А про себя решил, что и рта больше никогда не раскроет, если придется взывать к ближним не с возвышения и не сидя в седле.
Затем к нему снова подошел посланец, напомнить, что Эдгар и Билл уже теряют терпение.
Вот ведь какие настырные! Пенкрофт извинился и, по рассеянности прихватив со стола парочку ранее облюбованных револьверов, вышел. Сейчас он задаст этим соплякам жару!
На улице его ожидал сюрприз. Эдгара украшала седая борода до пояса, Билл – дылда лет сорока – поражал ленивой медлительностью движений.
– Не сердитесь, Бен, – начал было седобородый, – мы пришли, чтобы…
– Надоело мне с вами разговоры разговаривать! – в сердцах оборвал его Пенкрофт. – Плевать я хотел на вашего Эммануэла!
– Речь не о нем, а обо мне! – твердил свое Бородатый.
– Больше никого усыновлять не стану! Пускай наш спор решат револьверы!
При этих словах рука Длинного нырнула в карман. Издав боевой клич, Пенкрофт ловким ударом вывел его из строя.
– Напрасно вы его так! – обиженно завопил Бородач. – Он хотел показать вам официальное извещение. Вы усыновили Эммануэла, за что мы вам бесконечно благодарны. Но его выставили с работы, поскольку оказалось, что за вами водятся кой-какие грешки. Мы пришли умолять вас, разрешите адвокату Лопесу переиграть это усыновление обратно. Зачем Эммануэлу приемный отец с преступным прошлым?! Соглашайтесь, мы за расходами не постоим!
Каковы наглецы: то достают человека, усынови невесть кого, а сделаешь доброе дело, тебя же какой-то ерундой попрекают!
– Ну, вот что, милые мои! Дело сделано, я стремился исправить прошлые грехи и помочь моему сыну по мере возможности…
Дылда, который, оправившись от удара, вел себя смирно, при этих словах взвился на дыбы. Лез в драку, шестерым из числа зевак пришлось его удерживать.
– Что ты сказал, подонок?! Чей, по-твоему, сын мой Эммануэл?
– Почем я знаю? Отвяжитесь, к лешему!
Ну, тут уж и седобородый братец схватился за револьвер. Переполох на площади поднялся невообразимый. Наконец из реплик собравшихся вырисовалась следующая картина. Семье итальянских эмигрантов не доставало одного года для получения американского гражданства. Бенджамин Вальтер соблазнил их каким-то сомнительным бизнесом, ради которого потребовалось уехать в Южную Америку, а затем снова вернуться в Филиппон. Тогда-то Вальтер и посулил усыновить Эммануэла, если вдруг парня не возьмут на работу по причине иностранного гражданства и упущенного года. А теперь получается, что семье предстоит мыкаться еще год, да еще и сносить позор невыясненного отцовства.
Однако этот маленький инцидент не сказался на настроении всеобщего подъема. Город бурно ликовал, отовсюду раздавались возгласы восторга, пальба в воздух, все окна ярко освещены… На Главной площади, при большом стечении народа было объявлено, что Равиан тоже войдет в угольный концерн, и оба города воссоединятся. Филиппонцы и равианцы обнимались, как братья, затем подхватили Пенкрофта, посадили его на плечи и понесли по улицам. Те же самые люди, что вчера желали ему смерти, сейчас норовили протолкаться поближе, чтобы пожать руку.
Стоя на возвышении посреди Главной площади, Пенкрофт наблюдал, как сквозь толпу к нему пробивается Вуперин, с непокрытой головой.
Перекрывая шум, он зычным голосом объявил:
– Прошу прощения у граждан Филиппона! Горжусь, что могу пожать Бенджамину Вальтеру руку!
Под звуки музыки и оглушительные крики «ура!» они обменялись рукопожатием. Площадь была освещена факелами. Пенкрофт отвечал на приветствия, кивал и улыбался, мужчины взмахивали шляпами, в руках у дам белыми птицами вспархивали платочки…
Примирение городов состоялось.
На рассвете Пенкрофт в сопровождении капитана Стоуренса побрел к вокзалу. Капитан надеялся, что, отчитавшись в делах, скоро вернется из Нью-Йорка. События пополнились еще одним эпизодом: Бернс принял яд и отправился к праотцам. А вот Штербинскому хоть бы хны: знай себе посвистывает, скалит зубы и ест за двоих. Этот и через десять лет выйдет из тюрьмы этаким молодчиком, словно провел там какой-нибудь час.
Как же все-таки зовут этого Штербинского? Если уж выяснить хоть что-то о Пробатбиколе он отчаялся, то, может, попытаться напоследок выведать про лакея?
– Надеюсь, старина, ты не вздумаешь приглашать меня на казенные харчи? – небрежно бросил он капитану.
– Как знать… – шутливо ответил тот, – и сердце Пенкрофта сжалось всего лишь от одной безобидной шутки. Ох, неспроста набился капитан в провожатые! Небось, раскопал его подноготную…
– Вряд ли ты узнаешь обо мне что-нибудь такое, что позволит упечь меня за решетку, – покатил он пробный шар. – Я ведь не чета тихоням вроде этого Эдуарда Штербинского.
– Теобальд.
Кровь застыла в жилах у Пенкрофта. Боже правый, оказывается, полицейский не так-то прост: знает про него многое, вплоть до заковыристого имени.
– Не понял, – севшим голосом прохрипел Пенкрофт. – Что ты сказал?
– Я сказал: Теобальд.
– И что это означает?
– Всего лишь имя преступника.
Бум-трах-тарарах! Давно уже серия из трех ударов не удавалась Пенкрофту столь ловко. Послышался хруст разбитой челюсти, голова капитана поникла, а сам он мешком рухнул в придорожные кусты. Будешь знать, подлая ищейка, как вынюхивать да выведывать про прежнее житье-бытье Теобальда, который давно уже вовсе не преступник, а спаситель города, народный трибун и готовая модель для будущих памятников! Не зря рожа его показалась подозрительной еще в ратуше, когда он кряхтел да прокашливался.
Пенкрофт крепко-накрепко связал капитана, чтобы тот не мог и пошевелиться, заткнул ему рот, чтобы он и пикнуть не посмел, и спихнул в придорожную канаву.
Теперь побыстрее на вокзал. Но по дороге Пенкрофт заскочил к Кёдлингерам попрощаться. Однако при его появлении Кёдлингер-старший выпрыгнул в окно и припустился бежать со всех ног.
Посреди комнаты возвышалась большущая фарфоровая ваза, до недавнего времени служившая украшением холла в доме городского советника. В вазе красовался роскошный букет роз из сада генерала в отставке и пакет провернутого на котлеты мяса. «Все, братишки, конец вашей шикарной жизни, – подумал Пенкрофт. – Впрочем, будем надеяться, что пропасть с голоду вам не дадут».