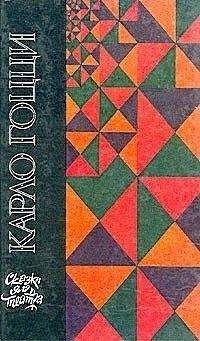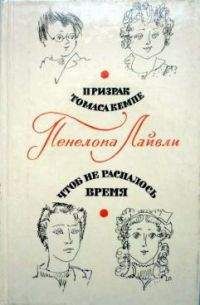— В чём дело? — спрашиваю я, спокойный, как сто индийских йогов.
— Нас топит! — делает он много резких движений.
— Вас?
— Нас, нас!
— И что, хорошо топит?
— Во! — говорит он и делает себе харакири по шее.
— А при чём здесь мы? Ну и тоните… без замечаний…
— Ы-ы!!! — рычит он. — Вы ходите в гальюн, а нас топит! Прекратите!
— Что прекратить?
— Прекратите ходить в гальюн!!!
— А куда ходить?
— Куда хотите! Хоть в сопки!
— А вы там были?
— Где?!
— В сопках в минус тридцать?
— Пе-ре-с-та-нь-те из-де-ва-ть-ся! У на-с у-же столы пла-ва-ют!!!
— Ну-у-у… — сказал я протяжно, травмируя скулы, — и чем же я могу помочь… столам?…
— А-а-а!!! — сказал он и умчался, лягаясь, безумный.
«Бешеный», — подумал я и сходил в гальюн, а за мной сходили, подумав, ещё сорок моих матросов. На всякий случай. Может, завтра запретят… по всей стране… кто его знает?…
Назавтра явилась целая банда. Впереди бежал начальник корректорской — той самой, что временно превращена в ватерклозет, и орал, что я — Али-Баба и вот они, мои сорок разбойников. Это он мне — подводнику флота Её Величества?!
— Ну ты, — сказал я этому завсклада остервенелости, — распеленованная мумия Тутанхамона! Берегите свои яйца, курочка-ряба!
Нас разняли, и мне объяснили, что в гальюн ходить нельзя, что топит, что нужно поставить матроса, чтоб он непрерывно ломал колено унитаза («Что ломал?» — «Колено! Ко-ле-но!» — «Об чего ломал? об колено?»), «ломами ломал, ломами, и не делайте умное лицо! и чтоб в гальюн никто не ходил! Это приказание. Командующего!»
— А куда ходить?
— Никуда! Это приказ командующего.
— Ну… раз командующего-о…
Я построил всех и объявил, что командующий с сегодняшнего дня запретил нам ходить в гальюн.
— А куда ходить? — спросили из строя.
— Никуда, — ответил я.
— А-га, — сказали из строя и улыбнулись, — ну, есть!…
А потом мы поставили матроса, чтоб непрерывно ломал, и срочно сходили все как один сорок один в гальюн, про запас.
— Упрямый ты, — сказал мне, уже мирно, начальник корректорской.
«Ага, — подумал я, — как сто бедуинов».
— Ну-ну, — сказал он, — я тебе устрою встречу с командующим.
«А вот это нехорошо, — подумал я, — мы так не договаривались. Надо срочно поискать нам гальюн где-то на стороне, а то этот любимый сын лошади Пржевальского и впрямь помчится по начальству». И пошёл я искать гальюн.
— Товарищ капитан первого ранга, — обратился я к командиру соседей по этажу, когда тот нёсся по лестнице вверх, стремительный; кличка у него была, как у эсминца — Безудержный.
— Товарищ капитан первого ранга, — обратился я, — разрешите нам ходить в ваш гальюн. У меня сорок человек… всего…
Он остановился, повернулся, резко наклонился ко мне с верхней ступеньки, приблизил лицо к лицу вплотную и заорал истерично:
— На голову мне лучше сходи сорок раз! На голову! — и в доказательство готовности своей головы ко всему треснул по ней ладонью.
Тогда я отправился к командиру дивизии:
— Прошу разрешения, товарищ капитан первого ранга, старший в экипаже… товарищ комдив, запрещают в гальюн ходить, у меня сорок человек, у меня люди… а куда ходить, товарищ комдив?
Комдив из бумаг и телефонов посмотрел на меня сильно?
— Не знаю… я… не знаю. Хочешь, строем сюда ко мне ходи.
После этого он бросил ручку и продолжил:
— Пой-ми-те! Я-не-га-ль-ю-на-ми-ко-ман-ду-ю-ю! Не гальюнами! И не говном! Отнюдь! Я командую с-трате-ги-чес-ки-ми! Ра-ке-то-носцами.
После этого он подобрал со стола карандаш и швырнул его в угол.
«Ну вот, — подумал я, — осталось дождаться встречи с командующим. Я думаю, это не залежится».
И не залежалось.
— Я слышал, что у вас возникли сомнения? относительно моего приказания?
— Товарищ командующий… я… не ассенизатор…
— Так станете им! Станете! Все мы… не ассенизаторы! Нужно думать в комплексе проблемы! Почему срёте?!
— Так ведь… гальюн закрыли…
— То, что гальюн закрыли, я в курсе, но почему вы, вы почему срёте?!! Вас что?! Некому привести в меридиан?!
После командующего мы принялись ломать унитаз интенсивно. И ходить в гальюн перестали. То есть не совсем, конечно, просто ходили хором потихонечку, вполуприсед. И тётки, которые в корректорской ниже этажом, так же ходили — по чуть-чуть.
И вот сломали мы, наконец, колено! Маэстро, туш! И не просто сломали, а пробили насквозь! И не просто пробили, а лом туда улетел!
А там в тот момент, к сожалению, сидела тётка… Сидит себе тётка, тихо и безмятежно гадит, и вдруг сверху прилетает лом и втыкается в бетон перед носом. И что же тётка? Она гадит мятежно! Во все стороны, раз уж выпал такой повод для желудочно-кишечного расстройства. Да ещё сверху в дырищу свесилось пять голов, пытаясь разглядеть, куда это делся лом; а ещё пять голов, которые не поместились в дырищу, стоят и спрашивают в задних рядах:
— Ну, чего там, чего застыли?…
Конечно, снизу прибежали, разорались:
— Человека чуть не убили!
На что наши возражали:
— А чего это она у вас гадит?
Больше всех возмущался я:
— Лично мы, — кричал я, — давно уже ходим на чердак! А ваши тётки! Сами валят, а на нас гадят! (То есть наоборот). Вот теперь я у этого легендарного отверстия вахту поставлю, чтоб днём и ночью наблюдали за этим вашим безобразием! Будем общаться напрямую! А то нам нельзя, а им, видите ли, можно!…
И начали мы общаться напрямую. Мои орлы решили, что если есть отверстие и если из него можно провести перпендикуляр, который при этом уткнётся ниже в другое отверстие, то странно было бы при наличии такого отверстия и такого перпендикуляра ходить на чердак!
На следующий день опять снизу прибежали и опять орали:
— А те-пе-рь! Давайте делайте нам косметический ремонт! Давайте делайте! У нас там — как двадцать гранат разорвалось! С дерьмом!
— Почему двадцать? — слабо возражал я, потрясенный ошеломительным размахом общения напрямую. — Откуда такая точность? Почему не сорок?
И вот гальюн. Каждый день гальюн. С ним была связана вся моя жизнь, все мои радости и печали, все мои помыслы и страданья, он мне снился ночами, мы сроднились с начальником корректорской, ходили друг к дружке запросто и подружились семьями…
В общем, когда приехал из отпуска мой сменщик, я, сдавая ему экипаж, веселился как неразумный, хохотал, хлопал его по плечу и целовал вкусно.
— Ви-тя! — говорил я ему нежно. — Знаешь ли ты отныне свою судьбу?
Он не знал, я подвёл его к гальюну:
— Вот, Витя, отныне это твоя судьба! А что будет главным в твоей судьбе?
И опять он не знал.
— Главное — на тётеньку не попасть. Там у нас одна дырочка есть, смотри — только в неё не поскользнись, а то мне будет печально. Остальное всё — муть собачья. Муть! Всё образуется и сделается как бы само собой. Сделают тебе гальюн, вот увидишь, сделают! Машина запущена. Ты, главное, не делай резких движений. И дыши носом. Арбытын ун дисциплин!
И мой сменщик вздохнул, а я вышел, оставив его, как говорится, в лучших чувствах с тяжёлым сердцем; вышел, хлопнул дверью и очутился в отпуске, хоть мне вслед и орали: «Не уезжать, пока не доведёте гальюн до ума! Не выпускайте его, не выпускайте! Не выдавайте ему проездных, не выдавайте!».
Целуйтесь с ними, с моими проездными. Пишите их, рисуйте, добивайтесь портретного сходства. Лаперузы мочёные. Кипятить вас некому!
Бух-бух-бух! В метре от старпома остановились флотские ботинки сорок пятого размера легендарной фабрики «Струпья скорохода». В ботинки был засунут новый лейтенант Гриша Храмов — полная луна над медвежьим туловищем. Он только что прибыл удобрить собой флотскую ниву. Гриша был вообще-то с Волги, и поэтому он заокал, приложив к уху лапу, очень похожую на малую саперную лопатку.
— Прошу розрешения везти жену на о-борт!
«Сделан в одну линию, — подумал одним взглядом с маху изучивший его старпом, — до пояса просто, а ниже ещё проще».
— Вот мне-е, — протянул старпом сладко, — кан-жд-ный день о-борт делают. О-бортируют… по самый аппендицит!
Старпом привёл лицо в соответствие с абортом:
— И никто никуда не возит. Вырвут гланду — и пошёл!
Лейтенант смутился. Он не знал, опускать руку или всё ещё отдавать честь.
«Ладно, — подумал старпом, увидев, что рука у Гриши не опускается, — нельзя же убивать человека влёт. Пусть размножается, такие тоже нужны». И махнул рукой: «Давай!».
На следующий день пробухало и доложило:
— Прошу роз-решения сидеть с дитями — жена на о-борте!
С тех пор поехало: то — «прошу роз-решения на о-борт», то — «с о-борта».
Четвертого аборта старпом не выдержал.