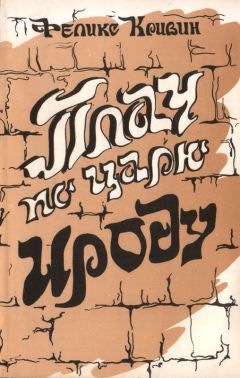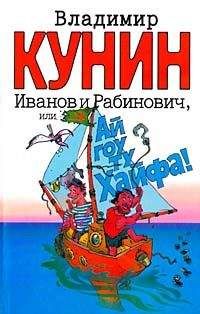И вдруг евреи взбунтовались: не хотим, говорят, идти на Русь, там наши родные братья украинцы. Лучше мы пойдем на Америку или на Западную Европу. Там, кстати, намного лучше со снабжением.
Говорит им Вассерман-хан:
— Интересно, как вы думаете добираться до Америки? Со всеми этими лошадями — через океан? А в Западную Европу все равно другой дороги нет, так что мы идем в правильном направлении.
Проснулся Вассерман в холодном поту. Боже, что он наделал! Он же привел на Россию татарское нашествие! В том числе и на Украину, а это уже и вовсе нехорошо. Потому что он сам здесь живет — и вдруг такое приводит!
В другой раз Вассерману приснилось, что он Фердинанд Арагонский. Известный король. Жена у него Изабелла Кастильская. Они надеялись, что от этого брака родится Испания, а она все никак не рождалась. Мешали арабы. У них там была целая территория — арабская Гранада. И эта Гранада возражала против Испании. Ей хотелось создать какое-нибудь объединенное арабское государство, какие-нибудь арабские эмираты или что-то вроде того.
Жена Изабелла говорит: надо посоветоваться со стариком Торквемадой. Очень умный старик, наверняка, что-то посоветует.
Посоветовались. Торквемада говорит:
— Надо арабов отделить от государства. А заодно и евреев.
Вы слышали? Причем здесь евреи? Разве кто-нибудь говорил о евреях? Почему чуть что — сразу евреи?
Торквемада говорит:
— Нельзя арабов отделять без евреев. Они связаны исторически.
— Но евреи — богатство нации, — доказывает Вассерман-Фердинанд. — И не обеднеет ли нация, если от нее отделить ее богатство?
— Ну ты, как маленький! — говорит Изабелла, а сама смотрит на Торквемаду — какой он предложит выход из положения?
— Отделять нужно по-умному, — говорит умный старик. — Сначала отделить богатство от евреев, а потом уже евреев от государства. Именно в такой последовательности.
— А куда девать евреев? — забеспокоился Вассерман-Фердинанд. — У арабов есть арабские страны, а евреям вообще деваться некуда.
Жена Изабелла говорит:
Тут во дворце крутится Колумб, такой мореплаватель. У него есть интересная идея. Если эту идею осуществить, евреям сразу будет куда уехать.
— А если они не уедут?
— Ну ты, как маленький! Это же Америка! Чтоб евреи не захотели уехать в Америку? Где ты видел таких евреев?
— Таких уже нет, — сказал Торквемада с сознанием выполненного долга.
Все так и случилось. В текущем во сне у Вассермана 1492 году арабов и евреев с треском вышибли из Испании, и Испания стала чистокровной Испанской страной. Причем богатой страной, потому что евреев своевременно отделили от их богатства.
И тогда же, в 1492 году (надо же, успел!), Христофор Колумб открыл Америку.
Правда, арабы и евреи долго еще не могли отделаться друг от друга. Вассерман уже давно проснулся, а они все никак не могли отделаться.
«И это называется — товарищи по несчастью! Столько было несчастий, что уже можно было стать товарищами!» — думал Вассерман, погружаясь в сон, где народы его страны как раз становились товарищами после известного несчастья 1917 года.
Извинение перед Рабиновичем
Грозный фараон, — впрочем, уже не такой грозный, неким был в прижизненные времена, — отдыхал в вечности от своей египетской работы.
В вечность постучали, и на пороге возник незнакомец странной какой-то внешности, с короной под мышкой и сумасшедшим блеском в глазах.
— Извините, вы не видели Рабиновича?
— Какого еще Рабиновича! — воскликнул фараон некогда громовым, а теперь еле слышным голосом. — Знать не знаю никакого Рабиновича!
И тут же призадумался: как это он знать не знает? Знать он как раз знает, все эти Рабиновичибыли у него в египетском плену.
Вошедший между тем говорил:
— Меня зовут Карл Шестой Карлович, французский король. Мне сказали, что Рабиновича исключили из партии, и я хочу перед ним извиниться.
— Из какой партии?
— Мало ли из какой. Например, из Франции мы изгоняли евреев партиями. Сегодня одну партию, завтра другую. Но, насколько мне помнится, мы не исключили Рабиновича из партии, а, наоборот, включили в нее.
Фараон тоже стал припоминать. Там была партия, которой досталась самая тяжелая египетская работа, и Рабиновича в нее включили, да, именно включили, а не исключили из нее.
— Все равно не мешает извиниться, — сказал галантный француз. — Если уж я извиняюсь, хотя был не в своем уме (меня, кстати, так и называли: Карл Безумный). В своем уме я бы ни за что не изгнал из страны своих подданных лишь на основании того, что у них не та национальность.
Фараон согласился. Ладно, говорит. Все равно делать нечего, почему бы не извиниться?
Пошли искать Рабиновича. Заглядывали то в ту, то в другую вечность. В монарховечность, в анарховечность, в разного рода национал-, социал-, политвечности. Но никто не исключал из партии Рабиновича, все его включали — и в партию врагов, и в партию арестантов, и впартию смертников.
Бывшие ребята из Союза Михаила Архангела даже возмутились:
— И здесь от этих Рабиновичей житья нет! То их искали, чтобы пришибить, а теперь ищи, чтобы извиниться!
Может, что-то посоветуют в вечности Советов? Кстати, там как раз и исключали из партии.
Стали искать вечность Советов, но она куда-то исчезла. А ведь недавно была. И на том месте, где она недавно была, сейчас такое делается! Не только часы или дни, годы разворовали! Скоро от этой вечности вообще ничего не останется.
Хоть бы Рабинович остался, чтоб можно было извиниться. Огромная собралась толпа, и каждый со своими извинениями. Хочется перед Рабиновичем извиниться — все равно делать нечего.
Но перед кем извиняться? Рабиновича нет. И партии, из которой его исключили, нет. И вечности, в которую ушла эта партия, нет…
Как же теперь извиниться перед Рабиновичем?
Есть в геологии термин: руководящие ископаемые. Такназывают окаменелости вымерших животных, которые были характерны для того или иного геологического периода. Таким, например, был Плеченог, характерный для Девонского и Каменноугольного периода, а также для периода развернутого строительства социализма.
Перед войной мы с Плеченогом жили в Одессе на улице Островидова. Он тогда еще не стал руководящим ископаемым и не превратился в геологическую окаменелость, а был обыкновенным одесским парнишкой, развитым не по годам. Особенно у него были развиты плечи и моги.
В то время я часто бывал на улице Бебеля (бывшей Еврейской), в большом и веселом дворе. Едва научившись ходить, я приходил туда с моей мамой к ее лучшей подруге, и у меня тоже появилась подруга — дочка подруги моей мамы.
Мамину подругу звали тетя Ханна, а мою подругу Нюся. Вообще-то она была подруга моей сестры и с высоты своих лет не очень обращала на меня внимание. Был у них еще папа, которого звали дядя Митя, богатырский мужчина, в своей кожаной куртке похожий на героя гражданской войны.
Тетя Ханна работала в театре буфетчицей, и это обстоятельство сделало из нас завзятых театралов. Плеченог тоже пристрастился к театру, и из зрительного зала его невозможно было вытащить даже в буфет.
Мы с Плеченогом любили играть в Нюсином дворе. Это был очень старый двор, и люди в нем жили очень давно: еще до них там жили их родители, а до родителей — родители родителей. В этом дворе играла Нюсина мама с моей мамой, когда они были детьми.
У Нюси, мамы и папы была комната в коммунальной квартире, а рядом с ней еще одна, совсем маленькая, с отдельным ходом. В этой комнатке жил Нюсин дедушка, но он умер незадолго до войны. Комната, в которой жила Нюся с родителями, была тоже небольшая, но нам в ней было просторно. Тогда никто из наших знакомых не жил в двух комнатах, мы думали, что двух комнат в одной семье вообще не бывает.
Дом был большой, в нем жили разные люди, и среди них Эльза Францевна, незаметная такая старушка. До войны она была незаметная и в глубине души, возможно, тосковала по заметности. Тем более, что жила она одна, и даже у себя дома замечать ее было некому.
Потом началась война, началась оборона Одессы. Нюсин папа пошел в ополчение и стал еще больше похож на героя гражданской войны. Но он был мирный человек и так привык ко всему домашнему, что каждую свободную минутку прибегал домой, чтобы побыть в домашней обстановке.
Однажды Нюся потеряла ключи и попросила меня залезть в окно и отпереть входную дверь ключом, который висел в передней на гвоздике. Я был на подоконнике когда застрочил пулемет. Начиналась бомбежка, та, самая страшная, когда на Одессу налетело пятьсот самолетов.
Я немного задержался на подоконнике, чтобы посмотреть, откуда стреляют, и, когда снимал ключ со стенки, Нюся уже колотилась в дверь. Потом стук прекратился — они все побежали в бомбоубежище.