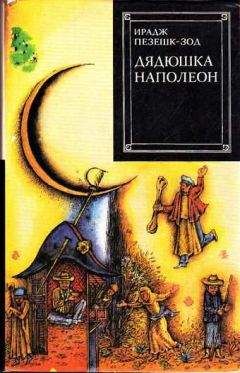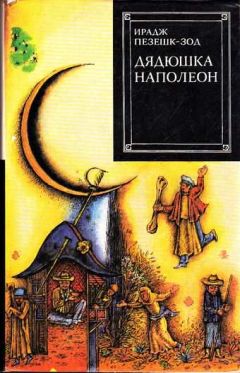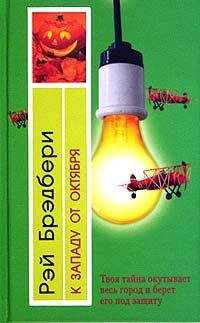Отношения Дустали-хана и Азиз ос-Салтане вошли в обычную колею, но зато жених Гамар, осененный божьей благодатью, раскаялся в своем благом порыве и сбежал.
Что касается дядюшки Наполеона и моего отца, то внешне между ними царили мир и согласие, и дядюшка даже больше прежнего сблизился с отцом и никого так не привечал, как его, но мою душу все сильнее разъедали сомнения в отцовской искренности и в честности его намерений. И в конце концов я почти пришел к выводу, что на самом деле отец всем сердцем стремится погубить дядюшку. Причина этого, насколько я, пятнадцатилетний мальчишка, мог тогда разобраться, объяснялась серьезным ущербом, понесенным отцом в результате известных событий годичной давности. После того, как проповедник Сеид-Абулькасем по наущению дядюшки обвинил в ереси управляющего отцовской аптекой, которая пользовалась заслуженной славой не только в нашем квартале, но и во всем районе, аптека совершенно захирела, и, даже когда отец уволил аптекаря, никто все равно не покупал там лекарства. Дошло до того, что, стремясь как-то поправить положение, отец нанял в ученики фармацевта сына Сеид-Абулькасема, но слова проповедника о том, что лекарства в аптеке делаются на спирте, прочно засели в памяти жителей квартала, и даже тот факт, что в аптеке теперь работал сын самого проповедника, ничего не изменил.
Когда после трех-четырех месяцев бесплодных усилий отца аптека окончательно разорилась и возле нашего дома свалили в кучу пустые шкафчики и пузырьки с глауберовой солью и борной кислотой, я часто слышал, как отец вполголоса посылает проклятья на голову виновников случившегося и бормочет о мести. И мне было абсолютно ясно, что жертвой отцовского гнева должен стать дядюшка Наполеон. Но не в характере отца было открыто проявлять свои страсти. Он держался с дядюшкой необыкновенно дружелюбно. И в течение всего года меня настораживало лишь одно: день ото дня отец все больше льстил дядюшке и все усерднее превозносил до небес его доблесть, геройство и величие. Я не мог тогда раскусить конечную цель отца, но с удивлением следил за тем, как он, еще год назад подвергавший скептическому осмеянию правдоподобность рассказов о стычках дядюшки в чине младшего жандармского офицера с горсткой бандитов, теперь сознательно воздвигает дядюшке пьедестал великого стратега и военачальника.
А дядюшка, чувствуя благожелательную поддержку, постепенно взбирался все выше по ступенькам лестницы, угодливо подставленной ему отцом. Схватки с бандитами на юге страны, до событий прошлого года разросшиеся лишь до масштабов битвы при Казеруне и битвы при Мамасени и имевшие разительное сходство в деталях со сражениями при Аустерлице и Маренго, теперь в результате отцовских внушений незаметно превратились в грандиозные кровопролитные войны, в которых дядюшка и его солдаты давали отпор несметным силам Британской империи. Конечно, родственники про себя подсмеивались над этими сказками, но ни у кого не находилось смелости вслух усомниться в их достоверности. А если кто-нибудь, набравшись храбрости, напоминал дядюшке, что раньше он описывал Казерунскую битву как всего лишь перестрелку с мятежным Ходадад-ханом, дядюшка возмущенно протестовал и серьезно обижался.
Однажды в гостях у доктора Насера оль-Хокама на ужине по случаю завершения пристройки флигеля к дому вмешательство Шамсали-мирзы в дядюшкино повествование чуть было не вызвало целую драму.
Дядюшка рассказывал о Казерунской кампании:
– У меня тогда было всего около трех тысяч солдат, да и те – усталые, голодные… А против нас выступало четыре вооруженных до зубов английских полка с пехотой, кавалерией и артиллерией. И единственное, что нас спасло, – это знаменитая тактика Наполеона в битве при Маренго. Правый фланг я поручил покойному Солтан Али-хану, левый – покойному Алиголи-хану. На себя взял командование кавалерией… Конечно, какая там кавалерия! Одно название. Четыре покалеченные голодные клячи…
– Но, ага, – немедленно вмешался Маш-Касем, – один ваш гнедой, да будет ему земля пухом, четырех лошадей стоил… Он был, что Рахш[19] у Рустама. Ага только его пришпорит, как он уже, словно орел, над горами несется!
– Да, только этот конь и в самом деле был хорош… Ты не помнишь, Маш-Касем, как его звали?
– Да, ей богу, зачем мне врать?! До могилы-то… Я как помню… коня этого самого… назвали вы… Сохраб![20]
– Правильно!… Молодец! Память у тебя получше моей. Да, звали его Сохраб.
За прошедший год дядюшка стал гораздо лучше относиться к Маш-Касему. За исключением отца, который, слушая истории дядюшки Наполеона, напускал на себя заинтересованный вид и притворялся, что верит каждому слову, все остальные родственники ничем не проявляли своего доверия, и дядюшка еще больше, чем прежде нуждался в живом свидетеле, который подтверждал бы его россказни. Таким свидетелем, естественно, не мог быть никто, кроме Маш-Касема, и тот был на седьмом небе, наслаждаясь своей новой ролью.
Итак, дядюшка продолжал:
– Солнце уже садилось, когда я увидел, что из-за скалы высунулось дуло ружья с привязанным к нему белым флагом. Я приказал прекратить огонь. К нам подъехал на лошади английский сержант и сказал, что хочет вести переговоры о мире. Первым делом я спросил его, в каком он чине, и, когда он ответил, что он – сержант, я сказал, что он не может вести переговоры со мной, а должен обратиться к кому-то в том же звании. Сейчас уж и не помню, кому я поручил провести переговоры с этим сержантом…
– Как это не помните, ага?! Удивительно! Вы что, совсем уже запамятовали?… Вы мне и поручили.
– Да нет! Не говори глупости, Касем! По-моему, я…
– Зачем мне врать?! До могилы-то… Как сейчас помню… Вы расхаживали перед своей палаткой. На шее у вас еще бинокль висел. Вы мне сказали: «Касем, я не могу разговаривать с этим сержантом. Узнай, чего он хочет». Потом сержанта привели ко мне. Он как упал в ноги, как начал причитать и просить о пощаде!… Я-то языка ихнего не понимал, но мальчонка-индиец, что при нем толмачом состоял, сказал мне: «Сержант говорит, чтобы вы сказали вашему аге, мол, армия наша разбита… Проявите великодушие и пощадите нас!» А я мальчонке говорю: «Спроси сержанта, почему его командир к нам не явился? Аге негоже разговаривать с младшим по званию». Сержант чего-то по-иностранному мальчонке ответил, а тот мне и говорит: «Передайте вашему аге, что командир ихний ранен и двигаться не может…»
Дядюшка перебил его:
– Я эти подробности уж и не помню… Разговор был долгий, а когда кончился, я их всех пощадил. Потом сам поехал к раненому английскому полковнику. Войдя в палатку к побежденному военачальнику вражеской армии, я встал по стойке «смирно» и отдал честь. Он, бедняга, еле жив был, ему пулями горло насквозь пробило, но он все равно не удержался и, хоть уже умирал, сказал: «Мусью… вы есть из благородный семья… вы есть знатный род… Вы – большой командир… Мы, англичане, таким вещам придавать большой значе…»
И как раз в этом месте дядюшку прервал Шамсали-мирза, вероятно, выпивший пару лишних стаканов вина:
– Ну у него и глотка, видно, была! Господи помилуй! Чтоб человек, которому горло насквозь пулями пробило, так много говорил?!
Дядюшка вдруг пришел в такое бешенство, что все замерли не дыша.
– В нашей семье стали забывать о воспитанности, приличиях и манерах! Вместо этого я вижу только наглость, бесстыдство и неуважение к старшим!
Сказав это, дядюшка встал, чтобы уйти, но все кинулись ему в ноги, а отец, пользуясь репутацией знатока фармакопеи, произнес яркую речь о том, что наука допускает, что человек с разодранным в клочья горлом может говорить, и этим сумел утихомирить дядюшку.
Отец без размышлений поддакивал дядюшке, что бы тот ни сочинял, и никогда не упускал случая после очередной дядюшкиной истории сказать: «Вряд ли англичане такое вам забудут!»
Постоянная отцовская лесть и его выдумки про страшную месть англичан, которые он внушал дядюшке, делали свое дело: дядюшка стал с большим подозрением относиться ко всем вокруг. На любом шагу ему теперь мерещились притаившиеся англичане. Более того, Маш-Касем рассказывал, что последние два-три месяца дядюшка, ложась спать, клал под подушку пистолет и часто с обреченным видом говорил: «Я знаю, в конце концов они это сделают. Своей смертью мне не умереть!»
С течением времени дядюшкина уверенность заразила и Маш-Касема, и я собственными ушами не раз слышал от него, что он тоже боится мести англичан. «Э-э, милок, зачем мне врать?! До могилы-то… Мне, конечно, далеко до нашего аги, но и я, как мог, англичанам насолил. Они мне этого еще сто лет не забудут!»
Единственное обстоятельство, омрачавшее такую на вид прочную и искреннюю дружбу дядюшки с отцом, было связано с личностью сардара Махарат-хана.
Я думаю, его настоящее имя было Бахарат или Бхарат, но в нашем квартале его величали сардар Махарат-хан. Этот индийский купец несколько месяцев назад снял принадлежавший моему отцу небольшой дом напротив нашего общего сада…