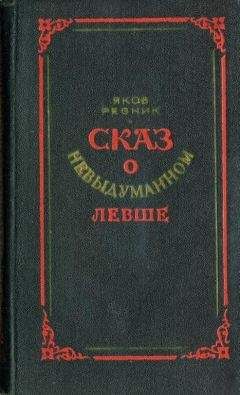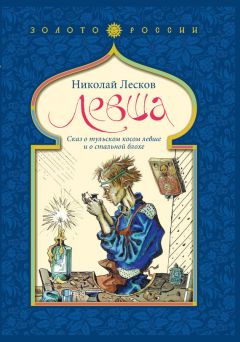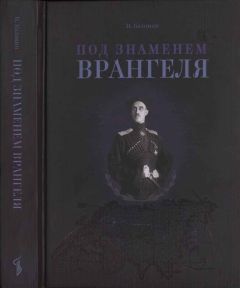Конечно такой свободы для разбойничьих шаек как во времена восстания Стеньки Разина или Пугачева, когда те грабили целые города и разоряли церкви, сейчас было уже не найти, мятежники, что норовили сбросить с колокольни какого-нибудь архиепископа и перевешать всех дворян повывелись. Некому было поднять на бунт казачье войско, брать крепости, казнить и вешать аристократов а иногда и своих же сподвижников за пьянство и недисциплинированность, никто не рвался осадить Оренбург и объявить себя новым царем. Но и дремать в пути было никак нельзя – это могло плохо кончится, случалось что задремавший просыпался уже на том, а не на этом свете.
Вот и сейчас какой-то шутник коварно перегородил дорогу низко подвешенным бревном, замаскированным еловыми ветками, да так удачно что увидав небо в алмазах граф Г. очнулся лишь немного спустя. Несколько времени Михайло не желал открыть свои глаза, не из робости конечно а просто от отвращения к тем негодяям которых ему возможно предстояло узреть. Когда же он поднял веки, его как-то сразу обрадовало то что он увидел над собой вместо преужаснейшей разбойничьей рожи доброе лицо старины Морозявкина.
Тут разумеется следовать напомнить нашему забывчивому, страдающему хроническим склерозом и ограниченностью карты памяти читателю кто же такой Морозявкин. Времена спешат столь быстро что и значительные фигуры стираются из нашей памяти, заменяясь разумеется на еще более значительные, а маленький человек как-то пропадает и тускнеет. Сколько не описывай его, хоть всю шинель размалюй яркой краской, а все равно скажут – нет, не хорош, не важен.
Но правда встречаются и другие случаи – как не гонишь героя со страниц, хоть и поганой метлой, ан гляди – он снова тут, как мышь в торте. Человек не высокого, но и не низкого роста, то носивший усы и бороду то сбривавший их чтобы сбить сыскарей со следа, герой скорее характерный нежели чем в амплуа красавца-мужчины конечно не может претендовать на любовь читательниц высокого общественного статуса, однако еще в состоянии привлечь внимание женщин из более простых сословий, как мужчина видный и на ласку заводной.
Этот вечный студент и бывший соученик графа, неунывающий пройдоха, сам себя называвший разночинцем и Вольдемаром вместо обычного Владимира, уже давно выскакивал то там то тут, причем всегда когда не надо. В ходе их многолетних совместных приключений граф Г. уже и не упомнил когда было чтоб тот появлялся во-время, и по приезде в Петербург собирался его искать во всяких злачных заведениях.
Обычно для нахождения приятеля требовалось обойти довольно много всевозможных кабаков и трактиров, в Московской, Литейной, Адмиралтейских частях и прочая и прочая и прочая. Там везде его знали, помнили и даже любили но в долг уже нигде не наливали, полагая что дружба дружбой а денежки врозь. Это грустное обстоятельство заставляло его еще сильнее сбиваться с пути истинного в поисках пропитания и пропивания, однако же затрудняло то что в столице он стал уже слишком хорошо известен, и решительно не с лучшей стороны.
Унижаться же до известных забав, при которых собутыльнику подливали в вино сонного зелья а потом обчистив карманы сбрасывали еще теплое тело поплавать в Фонтанку он не желал, хотя и получал подобные заманчивые предложения от местных криминальных элементов. Впрочем падая все ниже Вольдемар уже стал обращать на себя внимание полиции, которая прежде прощала ему мелкие шалости вроде разбивания сердец некоторых барышень из порядочных семей, аферы, кражи со взломом и прочие проделки в старинном духе.
Морозявкин вынужден был уйти в партизаны и перейти на нелегальное положение, организовав себе в местных лесах что-то вроде берлоги посредь болот и питаясь только подножным кормом, ягелем, мелкой дичью и прохожими. Искали его давно, и пожарные, и полиция, и даже репортеры полицейских ведомостей за неимением фотографов, да только почему-то не могли найти. Теперь же стариный друг обнаружился почти сразу, что наш граф счел хорошим предзнаменованием.
– А ты откуда здесь взялся, старый хрен? – полюбопытствовал граф Михайло на приятельских правах, очнувшись немного от удара. В целом он чувствовал себя неплохо, вот только голова как-то ужасно болела.
– Я-то? Да я знаешь ли тут силки расставляю на рябчиков. Кушать-то хочется. Петли там всякие, капканы… Вот ты со своей лошадкой и попался! – отвечал Морозявкин радуясь что граф, которого он признал не сразу, наконец-то пришел в себя.
Часто ему случалось переусердствовать, и каждый раз он горько сожалел об этом, крестился, молился сам и заказывал заупокойные службы в церкви, словом всячески пытался очиститься от грехов, а потом разумеется снова грешил, дабы иметь возможность вновь покаяться. Понять это иноземцу верно было бы затруднительно, но конечно свои все хорошо понимали, а прегрешения снимались либо с помощью святой воды, либо обычной самодельной водки. Таким образом совершался вечный круговорот грехов и покаяний в природе, дававший возможность многочисленным попам не умереть с голоду.
Михайло сообразил что Морозявкин верно решил податься в разбойники и начал грабить на большой дороге, чего ранее за ним не замечалось. Граф вспомнил, превозмогая головную боль, что приятель скорее был склоне к отъему денег обывателей более благородными способами, не брезгуя ничем – ни медициной, ни цирюльным ремеслом, ни даже и гаданием. Но дубины или там ножа ранее в руки он вовсе не брал, проворовываясь, точь-в-точь по классику, благородным образом. Капитан-исправник до него еще не докопался по-настоящему, и граф уже и не знал что и подумать, с кем сравнить старого знакомца и к какому поучительному образу из мировой литературы, сокровищницы знаний, тут обратиться.
Бомарше уже успел к тому времени написать своего знаменитого «Фигаро», а король Людовик уже пытался безуспешное его запретить, но вскоре большинством голосов запретили его самого, посредством гильотинирования. Путешествовавший по Европе инкогнито будущий император Павел Петрович с комедией ознакомился буквально из первых рук но к сожалению ее вовсе не понял, за что также был впоследствии казнен взбунтовавшимися «слугами народа». Отсутствие чувства юмора у королей – возможно в силу неимения хороших шутов – было очень опасно для их здоровья, даже хуже курения трубки. Понявши это, в дальнейшем правители разрешили представление французской комедии, действие которой было политкорректно перенесено в Испанию, повсеместно.
Постановка шедевра юморостроения шла и в Большом Каменном театре в Санкт-Петербурге, и граф, бывший к тому же заядлым театралом, полагал что героя вполне можно было писать с Морозявкина, и более того он и сам мог бы там сыграть вместо актера Саши Рамазанова, хотя надо признать – и тот лицедействовал блестяще. Сам Рамазанов, по мнению «Сына Отечества» имея отличные таланты для комедии и оперы и подавая великую надежду, конечно долго на свете не зажился, но был запечатлен знаменитым художником Брюлловым на веки вечные.
– Да я и сейчас нож не взял бы, я так, охочусь по распутице… ну может если случайно какой рябчик с кошельком попадется так я подберу – что добру пропадать! Но хочу тут мораль читать но знаешь ли что, сейчас времена лихие, каждый за себя сражается ну и выживает как может. В белых перчатках с голодухи помрешь. Мы-то не графья, нас царская колыбель не качала!
– Окстись! – сказал ему граф с приличным негодованием. – Как ты можешь губить свою бессмертную душу столь низким и подлым занятием? Ты – наполовину благородный человек, знающий основы всякой образованности – французский язык и философию, наконец имеющий высокое звание моего приятеля?
– Да званием-то сыт не будешь… Царские деньги да награды я кои пропил, кои ростовщику заклал. Ни в одном трактире в долг уже не наливали, вообрази себе такую оказию. Что ж оставалось делать? Только и охотиться на подступах к стольному городу. Рябчик там, кабанчик…
– Человечек… – подытожил граф Г. – Ну вот что, друг любезный – пока тебя не вздернули изволь вернуться на государеву службу. Айда со мной!
Михайло с трудом и с посильной помощью Вольдемара поднялся с грязного снега и отряхнувши камзол и медвежью шубу и потирая ушибленный затылок взгромоздился на по счастью уцелевшего коня. Уже не обращая внимания на солнце, которое успело закатиться, на ворон, ругавшихся пуще прежнего, на медведя, который вылез из берлоги как видно к ужину и сейчас смотрел чем закончится сценка и не останется ли ему на снегу пожива, он натянул поводья, проверив управляемость животного после аварии. Оставшись доволен результатом и посадивши сзади себя приятеля граф Г. дал шпоры коню и поскакал с несколько замедлившейся скоростью все в том же направлении – в северную Пальмиру.
Глава третья, северно-пальмирская
Граф Г. уже давно заметил что Пальмира эта, несмотря на то что была столицей славнейшей и обширнейшей империи, в зимний период времен года становилась какой-то особенно унылой и неприветливой. Здания соборов, набережная с ее превосходной летом першпективой, мелкие речушки вроде Фонтанки и Мойки, самый Финский залив, прозванный недавно остряками Маркизовой лужей – все было сковано льдом и снегом. В смысле першпективы тут все было вообще очень северное и мало отличалось от какого-нибудь Тобольска, в котором Михайле правда до сих пор не довелось побывать и он надеялся что и не придется.