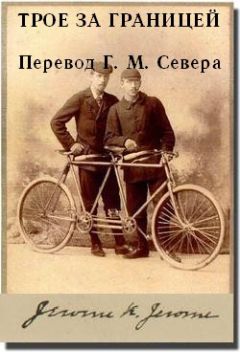— Ну вот! — скажет он оскорбленно. — Теперь пропал гвоздь.
И нам всем придется пасть ниц и ползать, чтобы найти гвоздь, пока дядюшка будет стоять на стуле, ворчать и осведомляться, не собираются ли его продержать в таком положении целый вечер.
В конце концов гвоздь найдется, только к тому времени потеряется молоток.
— Где молоток? Куда я подевал молоток? Великие небеса! Вас тут семеро, зеваете по сторонам, и никто не знает, куда я подевал молоток!
Мы найдем ему молоток. Затем он потеряет отметку, сделанную на стене в том месте, куда нужно забивать гвоздь. И каждый из нас должен будет забраться к нему на стул и попытаться ее разыскать. И каждый из нас разыщет ее в новом месте. И он обзовет нас всех, одного за другим, дураками и сгонит со стула. И он возьмет линейку и будет измерять все заново. И у него получится, что нужно будет разделить пополам тридцать один и три восьмых дюйма; он попробует посчитать это в уме и свихнется.
И мы все попробуем посчитать это в уме, и у каждого получится разный ответ, и мы начнем друг над другом глумиться, и в общей склоке делимое будет забыто, и дядюшке Поджеру придется мерить все заново.
На этот раз он возьмет кусок шнура. В решающий миг, когда старый дурак наклонится под углом в сорок пять градусов (пытаясь дотянуться до точки, которая на три дюйма дальше той, до которой он в состоянии дотянуться), шнур соскользнет, и дядюшка рухнет на пианино, — при этом внезапность, с которой его туловище и голова разом ударяют по каждой клавише, создает редкий музыкальный эффект.
И тетушка Мария объявит, что не позволит детям стоять вокруг и слушать подобные выражения.
Наконец дядюшка Поджер снова отметит нужное место, левой рукой нацелит гвоздь, в правую возьмет молоток. С первым ударом он разобьет себе палец и с воплем выронит инструмент кому-нибудь на ногу.
И тетушка Мария кротко заметит, что когда в следующий раз дядюшка Поджер соберется забивать в стену гвоздь, то, она надеется, он предупредит об этом заблаговременно (так, чтобы она смогла приготовить к отъезду необходимое и провести недельку у матушки, пока забивается гвоздь).
— А! Вы, женщины, вечно поднимаете этакий шум по всякому пустяку, — ответит дядюшка Поджер, вставая. — А мне вот такая работа нравится.
Затем он предпримет другую попытку, и гвоздь со вторым же ударом уйдет в штукатурку, с ним в придачу полмолотка, а дядюшку Поджера швырнет в стену с такой силой, что он расквасит нос почти в лепешку.
И нам снова нужно искать линейку и шнур. Делается новая дырка. Ближе к полуночи картина висит на стене (очень криво и ненадежно); стена на несколько ярдов вокруг выглядит так, будто ее ровняли граблями. Каждый из нас смертельно измотан и валится с ног — каждый из нас, кроме дядюшки.
— Ну вот! — скажет он, тяжело спрыгивая с табурета на мозоли поденщицы и с явной гордостью обозревая произведенный разгром. — Что ж... А ведь кто-нибудь позвал бы рабочего, для такого-то пустяка!
Гаррис, когда постареет, станет таким же. Я это знаю, и ему об этом сообщал. Я сказал, что не могу позволить ему взваливать на себя так много работы. Я возразил:
— Нет! Ты раздобудь карандаш, бумагу и прейскурант. Джордж пусть записывает, а делать все буду я.
От первого составленного нами списка пришлось отказаться. Было ясно, что верховья Темзы недостаточно судоходны, чтобы вместить судно, которое бы справилось с грузом необходимых, как мы решили, вещей. Мы разорвали список и переглянулись.
Джордж сказал:
— Так совсем ничего не выйдет. Нужно думать не о том, что бы нам пригодилось, а о том, без чего нам не обойтись.
Временами Джордж решительно благоразумен. Просто на удивление. Я бы назвал такое «подлинной мудростью» — не только в отношении данного случая, но и говоря о нашем странствии по реке жизни вообще. Как много людей в этом странствии грузят и грузят лодчонку, пока, наконец, не утопят ее изобилием глупостей, которые, как эти люди уверены, для удовольствия и удобства в дороге — суть самое главное, и на деле которые — бесполезный хлам.
Как они пичкают, по самую мачту, свое маленькое несчастное судно! Драгоценной одеждой, большими домами; бесполезными слугами, толпой шикарных друзей (которые за вас не дадут и двух пенсов, а сами вы за которых не дадите полутора); дорогими увеселениями (которые никого не увеселяют); формальностями и манерами, претензиями и рисовкой, и — самый тяжелый, безумный хлам! — страхом того, что может подумать сосед. Роскошью, которая лишь пресыщает; удовольствиями, которые только набивают оскомину; фасоном, от которого (как от того железного обруча старых времен, что надевали на преступную голову) пойдет кровь и потеряешь сознание!
Все это хлам, старина, все это хлам! Выкидывай за борт. Из-за него так трудно грести, что ты валишься на веслах в обморок. Из-за него рулить так тяжело и опасно, что тебе ни на миг не освободиться от заботы и беспокойства, ни на миг не передохнуть в мечтательной праздности... Нет времени поглазеть на легкую рябь, скользящую по мелководью; на блестящих зайчиков, прыгающих по воде; на могучие дерева вдоль берега, зрящие в собственное отражение; на леса, все зеленые и золотые; на белые и желтые лилии, на хмурую волну камышей, или осоку, или ятрышник, или голубенькие незабудки...
Старина, выкидывай хлам за борт! Пусть ладья твоей жизни будет легкой, и пусть в ней будет только необходимое — скромный дом и несложные радости; пара друзей, которых стоит называть друзьями; тот, кого любишь ты и кто любит тебя; кошка, собака и пара трубок; сколько надо еды и сколько надо одежды (и чуть больше чем надо питья, ибо жажда — страшная вещь).
И ты увидишь, что лодку теперь легче вести и что теперь ее не тянет перевернуться. А если она все-таки перевернется, так пусть — простой и добротный скарб не боится воды. И ты найдешь время на размышления и на труд — на то, чтобы упиваться сиянием жизни; на то, чтобы слушать Эолову музыку, которую ветер Всевышнего извлекает из струн людских душ вокруг{*}; на то, чтобы...
Прошу прощения. Я что-то увлекся.
Итак, мы оставили список Джорджу, и он начал.
— Палатку мы брать не будем. Возьмем лодку с тентом. Это гораздо проще, да и удобнее.
Мысль показалась хорошей, и мы ее приняли. Не знаю, видели вы когда-нибудь эту штуку, которую я имею в виду. Вы закрепляете над лодкой железные дуги, поверх которых натягиваете огромный брезент, закрепляете его снизу со всех сторон от носа до самой кормы, и он превращает лодку в подобие домика, что очень уютно (хотя душновато; но каждая вещь имеет свои недостатки, как сказал один человек, когда у него умерла теща, а счет за расходы по погребению прислали ему).
Джордж сказал, что в таком случае нам нужно взять плед (на каждого), фонарь, кусок мыла, щетку, гребенку (на всех), зубную щетку (на каждого), тазик, зубной порошок, бритвенный прибор (не правда ли, похоже на урок французского?) и пару больших купальных полотенец. Я заметил, что люди всегда делают колоссальные приготовления, когда собираются куда-нибудь к водоему. И толком никогда не купаются, когда приезжают.
То же самое происходит, когда вы собираетесь на побережье. Пакуясь в Лондоне, я каждый раз уверяю себя, что по утрам буду вставать пораньше и перед завтраком окунаться. И благоговейно укладываю в чемодан пару купальных трусиков и купальное полотенце. (Я все время беру красные купальные трусики. В красных купальных трусиках я себе очень нравлюсь — они так идут под мой цвет лица.) Но когда я добираюсь до моря, купаться с утра пораньше мне хочется уже как-то не так, как хотелось в городе.
Напротив, я чувствую, что меня тянет валяться в постели до последней минуты и потом сразу спуститься к завтраку. Раз или два добродетель все-таки торжествует. Я встаю в шесть, кое-как одеваюсь, беру купальные трусики, беру полотенце — и ковыляю угрюмо к морю. И я не в восторге.
Для меня как нарочно запасают особенно пронизывающий восточный ветер, который только и ждет, чтобы я вышел купаться с утра пораньше; выковыривают все треугольные камни и кладут сверху; натачивают булыжники и присыпают края песком (чтобы я не увидел); берут море и оттаскивают его на две мили (чтобы я, дрожа и обхватив плечи руками, скакал по щиколотку в воде). А когда я до моря все-таки добираюсь, оно ведет себя вызывающе, просто оскорбительно.
Огромная волна хватает меня и швырком — со всей возможной жестокостью — сажает на булыжник, приготовленный здесь как раз для меня. И — прежде чем я успею сказать «Ай! Ой!» и выяснить что случилось — она возвращается и утаскивает меня в океанские недра. Тогда я бешено стремлюсь к берегу, уже не чая увидеть дом и друзей, и горько раскаиваюсь, что не жалел сестренку в мальчишеские годы (в мои мальчишеские годы, я имею в виду). И как раз когда я оставляю надежду, волна удаляется, бросив меня на песке, распластанного морской звездой. И я поднимаюсь, оглядываюсь и вижу, что сражался за жизнь над глубиной в два фута. Тогда я скачу назад, одеваюсь и приползаю домой, где вынужден притворяться, что я в восторге.