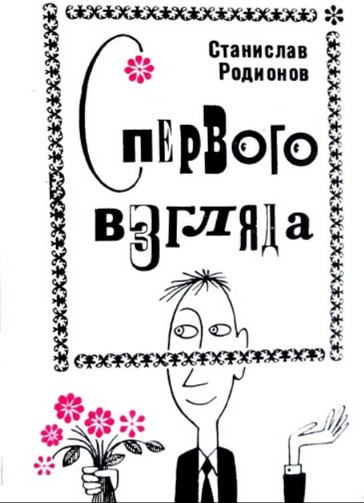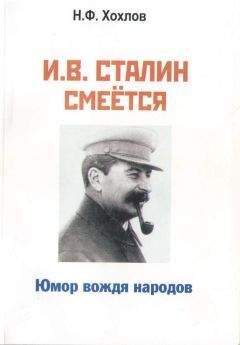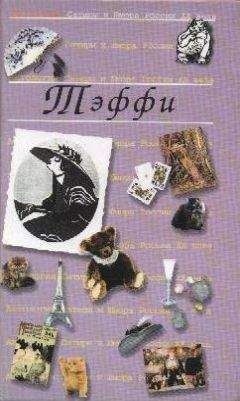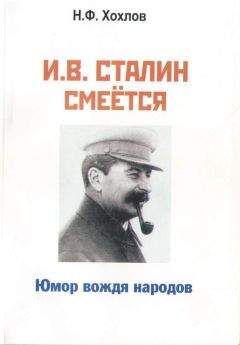как поросенок из корыта, начал поедать торт...
Дней через пять в милицию поступило заявление жильцов, в котором сообщалось, что на лестничной площадке дома сто восемьдесят по Средней улице поселился неизвестный гражданин, который питается тортами системы «Юбилейный» за три шестьдесят и пьет горячий чай из паровой батареи, где прямо его и заваривает, вследствие чего в квартирах холодно, поскольку горячая вода им выпивается, а трубы забиты чаем грузинским по девятнадцать копеек за пачку.
После письма к вышеназванному дому подъехал санитарный транспорт, и люди в белых халатах вывели гражданина с бурой щетиной на липких щеках и волосами, аккуратно смазанными кремом сливочным, ванильным.
На вопрос врача, не хочет ли он что-нибудь кому-нибудь передать, сладкий гражданин твердо ответил:
— Хочу передать привет. Архитекторам.
Вчера на работе я долго смеялся, потому что смеялись все. Замечал ли кто, что после сильного смеха бывает особенно грустно? Вроде бы высмеиваешься, опустошаешься.
Я полистал радужный журнал, свежо пахнувший керосинчиком, и бросил его на диван. Он раскрылся на огромной цветной фотографии — у скважины стояли обнявшись чумазые буровики. Я прошелся по комнате и глянул на фотографию с другого боку. Мне казалось, что теперь они будут стоять, опустив руки. Но буровики обнимались, как солдаты на фронте. Смешно. Я никогда не обнимаюсь с мужчинами. Изредка, после рюмки. Но эти-то буровики были трезвыми. Или они опьянели от фонтана коричневой нефти, бьющей в небо за их спинами?
Я закрыл журнал и начал ходить по квартире, бесцельно рассматривая знакомые вещи. Мне была известна каждая их царапинка или выбоинка. Каждая вещь имела свою куцую историю, которую я помнил, где купил, зачем и как вез домой.
Выключатель щелкнул звонко, и торшер в дневном свете зажегся почти невидимо. Я стоял, смотрел на абажур, который алел, как тюльпан, и ждал от торшера чего-то еще. Но светильники разговаривать не умеют — знал ведь.
С непонятной поспешностью я зашагал на кухню. Тоже ведь знал, что там никого нет и быть не может. Там никого и не было — только по-живому капала вода из крана. Я вернулся на диван.
Разве что-нибудь случилось? Ничего. Проект вчера приняли, премию получил, нигде не болит... Значит, ничего не случилось. Я бодрячески огляделся...
Стены равнодушно блестели обоями. Мягкий диван безропотно держал мое тело. Книги, эти великие немые, стояли на своих полках, красуясь сухими корешками. Письменный стол, о, письменный стол не заговорит, хоть руби его топором, — я знал свой письменный стол.
Щемящее чувство, которое дрожало неизвестно где и неизвестно почему, казалось, вот-вот вырвется из тела — и не вырывалось. От него было не освободиться, как от высокой температуры.
Я придвинул телефон и набрал номер:
— Виктор, ты? Слушай, приезжай ко мне...
— Случилось что?
— Нет. Приезжай просто так.
— Старик, по телеку идет футбол.
— Ну, я к тебе приеду...
Трубка молчала, смущенно посапывая.
— У меня Галя, — наконец признался Виктор.
— Понятно, — сказал я уж не знаю каким голосом, потому что он беспокойно переспросил:
— А у тебя ничего не случилось?
— Конечно, ничего, — хихикнул я.
—Тогда до понедельника. Во! Наши забили!
Трубка пищала, как живая. Интересно, сколько она так может? Все-таки живой звук. Я положил ее и опять распахнул журнал...
Пять буровиков. Двое пожилых, двое моих лет. А пятый — мальчишка с бородкой. Он-то чем заслужил мужскую дружбу? Но рука пожилого рабочего лежала на его плече. Неужели, чтобы стоять вот так обнявшись, нужно вместе воевать, добывать нефть, рубить уголь или плавить сталь? Неужели для этого мало работать в проектном институте?
Бред какой-то... Ведь это состояние я испытываю не впервые. Видимо, все последнее кажется самым сильным: последнее горе самое горькое, последняя радость самая сладкая. А последнее одиночество самое одинокое..
Я снял трубку и набрал номер, который знал на память:
— Здравствуй, Марина.
— Наконец-то, — от радости ее голос стал тихим, пропадающим. — Почему не звонил?
— Так, — ответил я, не приготовив никаких слов.
— Приезжай.
— Приезжать? — удивился я, словно никогда к ней не ездил.
— Сейчас, — подтвердила она.
Видимо, я замолк надолго. Марина тоже молчала — от радости. Мы молчали, но телефон молчаливых не любит. Торопливые гудки ворвались в нашу тишину, требуя разгрузки линии.
— Я не приеду.
— Почему? — удивленно крикнула она, пробиваясь сквозь гудки.
— Потому что ты женщина, — и я отключил телефон, чтобы она не звонила и не выясняла. Не было у меня сил говорить с женщиной.
И сразу стало в квартире тихо, тише, чем при включенном телефоне. Я ощущал время на ощупь, словно секунды текли между пальцев. Может, крикнуть, чтобы прибежали незнакомые соседи? Или ударить себя по груди, чтобы там затихло то, что никак не хотело затихать...
Посмотрели бы на меня сейчас коллеги. Похож ли я на того вечно осклабившегося парня, который сочиняет афоризмы типа: «Не требуйте от друзей слишком многого — достаточно, что они придут на ваши похороны»? Похож ли я на того доморощенного философа, который точно знает, что где бы и кем бы человек ни был — в конце концов он всегда остается наедине с собой? Но это в конце концов.
Я схватил справочник, включил телефон и набрал номер мастерской по ремонту стиральных машин.
— Мастерская слушает!
— Девушка, нельзя ли вызвать на сегодня мастера?
— Только на послезавтра, — отчеканила она.
— Девушка, помогите одинокому мужчине.— Я знал, на что женщины отзываются наверняка. — Руками стирать не умею.
— Жениться надо, — заметила она потеплевшим голосом.
— Зачем? Теперешние девицы не переломятся.
— Разные бывают, — голос ее окончательно сел, и я подумал, как бы она сама не приехала стирать.— Что с машиной?
— Урчит.
— Она и должна урчать.
— И дымит. Урчит и дымит.
— Высылаю мастера. Адрес?
Я назвал. Сразу стало легче, потому что началось ожидание. Есть пословица: ждать и догонять хуже всего. Чепуха. Хуже всего — ничего не ждать.
Я лег на диван, уставившись в потолок. Там, на потолке, с той стороны, ходили люди. За стенкой горласто кричал ребенок, пробивая звуком все перекрытия. Где-то лаяла породистая собака — простых в нашем доме не держали.