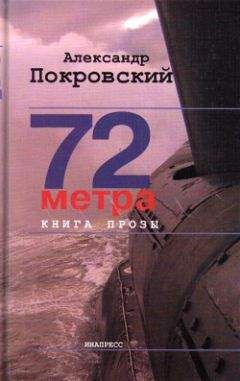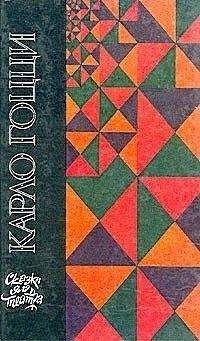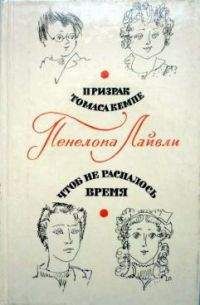По поводу предыдущего рассказа
Тут недавно мне начали говорить, что все это выдумка, что, мол, не мог старпом упасть на козырек.
А я им говорю: чистая правда. Мне самому когда рассказали, что старпом двести шестнадцатой упал на козырек, я сразу же спросил: «Фуражки?» Оказалось, не фуражки.
И в «скорой помощи», куда немедленно позвонили насчет того, что старпом упал на козырек, тоже спросили: «Фуражки?!» А им говорят: «Нет, не фуражки! Он упал на козырек!»– а они опять: «Фуражки?»– «Да нет же! Не фуражки! Он упал на козырек!!! – «Фуражки?!!»– «Блядь! Да не фуражки же!!! Не фу-ра-ж-ки!!» – и так пятнадцать раз подряд, потому что в те мгновения от волнения никто не мог сообразить, что бывает другой козырек.
Не от фуражки.
И насчет того, что тот козырек, который не от фуражки, был сделан без арматуры, тоже были всяческие недоверчивые выражения – мол, так уж точно не бывает, а я им напомнил, как в сто пятом доме забыли один лестничный пролет вовремя вставить и потом наружную стенку ломали, а у соседей на первом этаже общую трубу канализации со всего дома вывели посреди спальни.
Она у них выходила из потолка и уходила в пол рядом с подушкой.
Пришлось им выкрасить ее в белый цвет и черную крапушку, под березку.
Два года жили рядом с Ниагарским водопадом.
И еще относительно козырька, чтоб окончательно рассеять все сомнения: у Коти Лаптева, когда его назначили старшим над жилым домом в городке, в трех подъездах козырьки были, а в одном не было, и там все время в период дождей скапливалась вода, которая затем текла в подвал.
И Котьке командующий лично приказал восстановить над подъездом козырек, и когда Котька спросил его: «Из чего мне его сделать?» – командующий ему сказал: «Из собственных утренних испражнений».
И тогда Котя совершенно опечалился, и, видя такое его плачевное состояние, один из матросиков, в прошлом неплохой штукатур, ему предложил: «Товарищ лейтенант, да бросьте вы переживать. Вы мне найдите немного цемента и песка. Я из дранки сплету навес, привинчу его над подъездом, а потом оштукатурю. Ни одна собака не подкопается. Два года простоит, а потом это будут уже не ваши проблемы».
Так и сделали, и простоял тот навес ровно два года.
Потом рухнул. От скопившегося снега. На комиссию из Москвы.
Кстати, и все прочие части предыдущего рассказика также подвергались различным сомнениям.
В одном только никто не сомневался – в том, что дерьмо замерзло в унитазе.
– …А потом ты ей вдул, да?
– Ну что за выражение, Саня, яростные английские маркитантки. «Вдул». Я не вдул, я пальцами, пальцами открыл для себя нежнейшую область, в которой сейчас же обнаружил томительнейшую, стыдливейшую сырость, куда точнейшими ударами и направил своего Гаврюшу.
– А.
– Да, и никак иначе.
Мы с Саней Юркиным лежим в каюте. Он на верхней полке, я на нижней. Уже тридцатые сутки автономки, и я рассказываю ему о бабах.
– Она была тигрица. Клеопатра. Она меня царапала, кусала, сосала, лизала, как конфету. Она брала мое лицо и с силой водила им по груди, по груди, животу и ниже, заталкивала меня носом в пах, а потом возвращала меня наверх, хватала губами мои губы, а языком… что только она не делала своим языком… Она задыхалась. Ее сердце птичкой колотилось в маленьком тельце, и я слышал этот ужасный, сумасшедший бой. Спутанные, мокрые копны мелких кудрей, влажные, скользкие груди, пахнущие свежим сеном, жаркое опустошенное лицо и скачка. Она скакала на мне, как ковбой. Ее зад поднимался вверх с судорогой, со страданием, она почти отрывалась от моих направляющих, вернее, от одного направляющего, и тут же с силой опускалась – трах! трах-тебедух!
– О-о…
– Она говорила: «Не заморить ли нам червячка?» И она замаривала его. Червячок просто валился с ног, падал без сил. Она его дергала, массировала, мяла, трепала. Дай ей волю, она б его оторвала. А потом она тащила меня в ванну, где опускалась на колени и вновь поедала его, и он, казалось бы, совершенно безжизненный, немедленно оживал, опоясанный жилами, в нем нарастало безжалостное давление, а она словно чувствовала это его состояние, и сейчас же в ней обнаруживалось сострадание, материнская нежность, участие. Она лишь слегка удерживала его, предлагая передохнуть, но как только он поддавался на эти ее уговоры и успокаивался, она вновь набрасывалась на него, и он, несчастный, бежал от нее, но все это ему только казалось, потому что этакое его бегство входило в ее планы и направлялось ею же…
– А-а…
– И он, понявший это слишком уж поздно, забился, сначала сильно, а потом все слабее и слабее, покоряясь неизбежному, и наконец грянули струи, и она вынула его и оросила свое лицо, и особенно глаза…
– А-а…
Тут я кончил.
Саня по-моему, тоже.
Совершенно чокнулся… Отловил меня на палубе и говорит:
– Вы не любите наше государство.
А я ему немедленно в ответ, нервно, быстро, визгливо, чтоб не успел сообразить:
– Точно. Не люблю. Правда, я не люблю не только наше, я не люблю любое государство, потому что оно – орудие подавления. Это пресс, который давит. И кто ж его будет любить, когда он так давит? Может быть, жмых любит пресс, который давит?! Может, это какой-то ненормальный жмых. Его давят, а он любит. Вы с таким явлением не встречались? Кстати, сколько жмых ни дави, в нем все равно остается немного масла. Для себя. И мне симпатична эта идея. Что им не все удается выдавить.
А зам мне с каким-то непомерным отчаянием:
– Я хочу сказать, что вы не любите Отечество, нашу Отчизну!
А я ему:
– А что такое Отечество? И что такое Отчизна? Можете с ходу дать определение? Вот видите: не можете. Вы еще скажите, что я его обманываю. Отечество вместе с Отчизной, определение которым вы с ходу не можете дать. А я вам на это отвечу, что если б я сделал ребенка в Эфиопии, то тогда, может быть, я бы и обманул свою Отчизну вместе с Отечеством. Но я сделал его здесь. И по поводу прироста народонаселения с моей стороны не наблюдается никакого лукавства. А по-другому мне никак не выразить к нему любовь и восхищение. А в тюрьме, как известно, и гиппопотамы…
– Хватит! – вскрикивает зам, и пот у него выступает бисером на лбу бугристом.
– Ну, – думаю, – амба. Хорош. Как бы с ним чего не вышло. Доказывай потом, что зам умер оттого, что мы не сошлись в терминах.
– Антон Евсеич! – говорю ему очень мягко, потому что разговор этот проходит у нас в наше время, и чего нам с ним делить. Вот если б мы говорили лет пятнадцать назад, тогда, конечно, упекли бы меня за милую душу и сердце беззлобное, а так… – Ну что вы в самом-то деле! Чего вы ни с того ни с сего. Слова все это. Одни слова. А вы посмотрите, какое вокруг солнце, небо, облака. Обратите на облака свое особое внимание. Какой у них сказочный нижний край. Ведь чистый перламутр. А воздух?! Вдохните. Вдохните этот воздух, вдохните и вспомните цветы, листву, траву, лица людей, их улыбки…
– Хорошо, – сказал он как-то совсем обреченно и направился в каюту.
А я уже и сказать ничего не мог. Ерунда какая-то. Только руками развел.
Эй вы, бродяги заскорузлые, инвалиды ума!
Именно вам мое повествование предназначается, хотя кому, как не мне, следовало бы знать, что вам, в сущности, на него наплевать.
На самом-то деле вам бы, конечно, хотелось выкушать бидончик вина и в чудеснейшем настроении, ухватив ближайшую тетку за танкерную часть, потерять на некоторое время малую толику своего соколиного зрения и на ощупь проверить, все ли там у нее в наличии и на прежних местах.
Ах вы, черти полосатые!
Нельзя ни на минуту оставить вас без присмотра!
Обязательно залезете даме в ее макраме.
Между прочим, должен вам сообщить, что Бог придумал для человека очень смешной способ размножения: существует, видите ли, некоторый шарик, который при известных обстоятельствах накачивается – не воздухом, конечно, а жидкостью.
Шарик, в обычное время висящий мокренькой тряпочкой, можно сказать, сейчас же встает и даже тянется к небу, видимо, возносит к нему свои желания, и в этот момент изо всех сил работает насосик-сердце, которое тюкает-тюкает, бедняжечка, и накачивает этот шарик, поддерживая его вертикальную жизнь.
А потом человек сует его во всякие дыры, всячески пытаясь сломать.
И при этом все мы офицеры флота! (Черви в мошонку!) И только и делаем, что печемся о процветании Отчизны милой!
Вагинические пещеры и бесформенные куски сиракузятины! Конечно же о процветании, о чем же еще!
Сливки различных достоинств и жупелы чести!
Истинные кабальеро!
В сущности, мы еще даже не начали наше повествование, но мы его начнем, после небольшого вступления о маме-Родине.
Мама-Родина представляется мне в виде огромной, растрепанной, меланхолически настроенной, совершенно голой бабы, которая, разбросав свои рубенсовские ноги, сидит на весеннем черноземе, а вокруг нее бегают ее бесчисленные дети, которых она только-только нарожала в несметных количествах. А она пустой кастрюлей – хлоп! – по башке пробегающему ребятенку; он – брык! – и она сейчас же наготовила из него свежего холодца с квасом, чтоб накормить остальных.