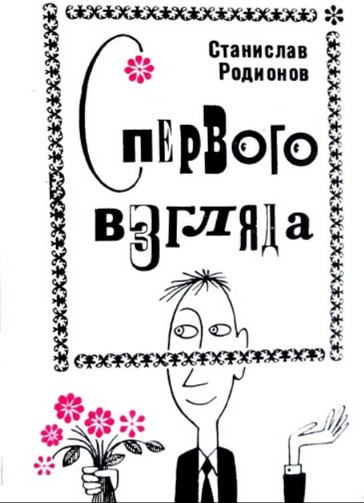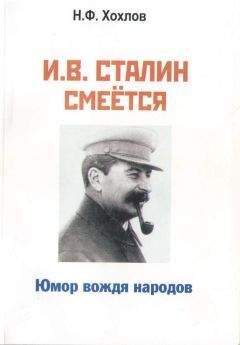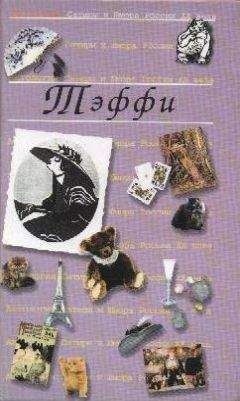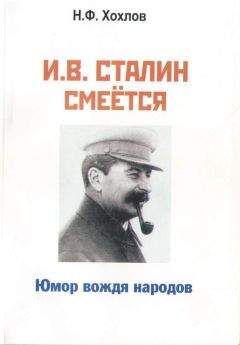я утратил тогда простоту. Это уж потом, когда жизнь меня кое-чем обременила, я понял, что истинный путь наверх — внутри нас.
Но тогда мой приятель, вездесущий, как человеческий дух, стал искать мне приличествующее место. И нашел. И предупредил, что такие места снятся людям, как те самые голубые города без названия.
Это было тихое учреждение на тихой улице, и с тех пор тишину я считаю признаком вечности учреждений. Сейчас не помню названия, но в него входили первые слоги десяти слов. Меня взяли референтом с испытательным сроком на месяц.
Какой-то начальник привел в кабинет и посадил за стол, на котором замерла в ожидании пачка чистой бумаги.
— Ну что ж, осматривайтесь.
В большом кабинете стояло только два стола. За другим сидел суровый пожилой человек, которого я даже мысленно стеснялся назвать коллегой. Он молча шелестел бумагами. Стояла тишина, как в барокамере. Осматриваться было трудно, так как не на что было смотреть. Мешать соседу расспросами я не решался.
Подошел обед. За полдня я испещрил шесть листов бумаги женскими силуэтами, ибо был молод. Испещрив седьмой, я пошел, придерживаясь мягкого ковра, и попал прямо к начальнику.
— Вы про меня не забыли?
— Мы ни про кого не забываем. Вы осматривайтесь.
Так прошел первый рабочий день. К моему удивлению, второй прошел так же.
Вечером я позвонил вездесущему приятелю:
— Слушай, я ведь не кочегар, а сижу так.
— Голубчик, это же приличное учреждение, они же присматриваются. Забудь ты про свою вульгарную кочегарку.
На третий день я опять сходил к начальнику.
— Неужели осмотрелись? — удивился он.
— Осмотрелся, — убежденно ответил я.
— Ну, хорошо, идите на рабочее место.
И я просидел еще дней пять, вырисовывая женские ножки. Мне было стыдно перед коллегой, который не отрывался от бумаг.
— Скажите, — не вытерпел я, — почему мне не дают работу?
— Как не дают? Вы же ходите на службу? — строго спросил он и, посмотрев сурово-отеческим взглядом, добавил: — А вы настырный.
Я порозовел, ибо в кочегарке меня считали недотепой.
Однажды, когда я заканчивал женский бюст во весь лист бумаги, мой молчаливый коллега спросил:
— Вы, кажется, юрист?
На меня пахнуло радостным жаром. Я подбежал к столу, готовый взяться даже за ядерную физику.
— Гражданское право знаете? Какой там есть термин из трех букв?
— Иск.
— Икс не вставляется.
— Не икс, а иск.
— Правильно, — впервые улыбнулся он. — Три дня из-за этого иска не могу кончить кроссворд.
Я пошел к начальнику, по ковру, в тишине.
— Сегодня уже двадцатый день, мне бы поработать...
— Молодой человек, ну что вы ходите! Когда будете нужны — вас призовут.
Я махнул рукой и остальные десять дней таскался по два раза в буфет, выучил наизусть стенгазету, познакомился с секретаршей и разрисовал ее профилем всю оставшуюся бумагу.
На тридцатый день начальник меня призвал.
— Вам нравится у нас? — подозрительно спросил он.
— Пытка бездельем, — признался я, ибо в то время еще не научился скрывать верные мысли.
— Ну, так вот, молодой человек. По образованию и деловым качествам вы нам подходите, но по характеру — нет. Уж больно вы суетливы. Идите в отдел кадров. До свидания.
Я вернулся в кочегарку, но испытательный срок не прошел даром. Я впервые понял, что дармовой хлеб мне в горло не пойдет.
А это — тоже путь наверх.
«Ах, как кружится голова, как голова кружится!» Вчера не могла писать и вообще ничего не могла делать. Утром пришла домой и упала на кровать. Давно ли мы в классе спорили о счастье, а оно тоннами навалилось, и я даже пугаюсь — да правда ли все это? Мне ничего, ничего не надо. Не в этом ли счастье? Восемнадцать лет, симпатична, только что закончила школу, люблю и любима. Ах, Володька, он думает, что признался, а я уже два года знаю. Разве это скроешь... Он ко всему относится с юмором, даже к математике, а со мной тишает, темные глаза под длинными женскими ресницами совсем чернеют, и он смотрит на меня, смотрит. Затем достает конфетку, очень дорогую и вкусную. Но я-то не сомневаюсь, что он и сердце бы достал.
Я уже знаю сто определений счастья, а вчера узнала сто первое. Большой луг до самого леса, весь засыпан цветами, и каждый цветок бежит куда-то под ветром. Белые-пребелые, чистые-пречистые, мои любимые ромашки вертят на ветру головками. Бледные, как неотстиранные чернильные пятна, круглыми ротиками кивают колокольчики. Из канавы высовывается иван-чай — долговязый и пышный. Желтенькие, синенькие, тусклые, яркие, огромные, маленькие и совсем малюсенькие цветы, которым мы не знаем названия, бегут у наших ног. И все это в солнце, в крепком белом солнце, как в бесплотном раскаленном сиропе.
Мы идем к лесу. Володька держит меня за руку, и глаза у него не черные, потому что солнце с цветами залепило их. Я уже съела все его конфеты. Одна была с ромом. И я опьянела. А может быть, от цветов?
Этот день я никогда не забуду.
А вот сто второе определение счастья: меня только что поцеловал Володька. Сначала я испугалась. А потом... Мне стыдно признаться, но мне понравилось. Всего поцеловались два с половиной раза, потому что в щечку решила считать за половинку.
Поцеловались четыре раза.
Шестнадцать раз.
Тридцать два раза. Господи, да ведь это же прогрессия! А первый раз Володька поцеловал и спрашивает: «Тебе не больно?» Я ответила, как в романе: «Истинный мужчина об этом истинную женщину не спрашивает». Иногда против воли вырывается банальность или глупость, хотя так и не думаешь. Потом, я не истинная женщина, а Володька не истинный мужчина.
Я — студентка геологического факультета. Но Капа, моя верная рассудительная Капа, тоже пошла на геологический, хотя ей пророчили торговлю и замужество.
Я — студентка геологического факультета. Но мой верный долговязый пышноресничный Володька пошел вместе со мной, хотя собирался на физический. Впрочем, мы должны быть вместе. Но только подумать: я — студентка геологического факультета.
Маме не нравится моя будущая специальность. Говорит, что не женское занятие разъезжать по провинции. Маму я очень люблю, и все-таки, истины ради,