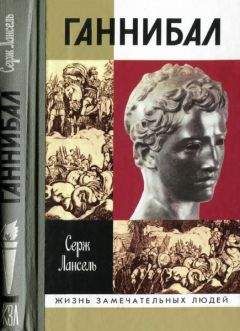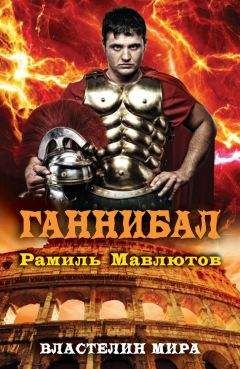Задние старались пробиться вперед, хотя это приближало их уход со сцены. Все интересовались: что дают? — но на этот главный философский вопрос не было ответа.
Режиссер ходил из конца в конец очереди и доказывал ей, что такое воплощенный замысел. Сначала вроде пусто, ничего нет, один только замысел и ничего больше. А потом этот замысел начинает облекаться в плоть, приобретать конкретные, реальные формы…
Калашников оторопел: да это же он, Калашников! Это он замысел, облеченный в плоть! Как он там резвился в горах, когда был бесплотным, безответственным замыслом! Что скажут — повторит. Замысел ни за что не отвечает. Он может даже повторить то, что давным-давно сказано в науке, в литературе, и его никто не осудит, потому что он пока только замысел. Но если воплотился — это уже плагиат.
Конечно, замыслу легче: за него спросят с автора. А кто автор Калашникова? Неизвестно. Существует воплощенный замысел, а кто автор неизвестно. За него никому ни лавров, ни взыскания — будто его вовсе нет.
Нужно верить, говорил режиссер. Очередь должна верить, что она очередь, чтобы ей поверил зрительный зал, чтоб ему самому захотелось стать в эту очередь.
В горах у Калашникова был ручеек. Он сбегал по склону горы, в полной уверенности, что впадает в речку. Но внизу не было речки, там была трясина, в которой бесследно исчезал ручеек. Но он об этом не знал и продолжал весело бежать по склону.
Потом ему объяснили его заблуждение. Правда восторжествовала, но он перестал торжествовать. Он больше не верил в речку, а в трясину верить не хотелось, и он засох от печали и разочарования. И склон, по которому он бежал, высох, потому что некому было его орошать.
Странно как получилось: пока ручеек верил в то, чего не было, и сам он был, и вокруг него чего только не было. А как перестал верить…
Для женщины, говорила Жанна Романовна, главное — встретить хорошего человека. Хороших людей много, но они почему-то редко встречаются. Они как воздух, который всюду, а потрогать его нельзя. И только редко-редко бывает так, что воздух вдруг материализуется и ты сможешь им не только дышать, но и взять его за руку, заглянуть в глаза, поговорить с ним о здоровье и о работе.
Вообще-то быть хорошим человеком нетрудно. Не нужно бросаться в огонь и в воду, спасать горящих и утопающих (как говорит директор гостиницы, спасать горящих от утопающих и утопающих от горящих), нужно только одно: со всеми соглашаться. Даже если имеешь свое мнение (хотя иметь свое мнение еще трудней, чем иметь свою виллу на берегу Баб-эль-Мандебского пролива, тоже выражение директора), все равно надо соглашаться. И с горящими, и с утопающими: «Что вы? Громче, пожалуйста! Ах, на помощь? Совершенно с вами согласен. На вашем месте-я бы кричал то же самое».
Нужно ли говорить, что Калашников был именно тем человеком, которого всю жизнь ожидала Жанна Романовна? Он по природе своей со всеми соглашался. Когда Жанна Романовна с ним разговаривала, она разговаривала как бы сама с собой — до того точно Калашников воспроизводил ее мысли и настроения. И вдруг все это рухнуло, и Жанна Романовна почувствовала себя, как отставший от каравана верблюд, который все еще надеется догнать караван, уходящий все дальше и дальше.
Если изобразить это на географической карте, то Зиночка и Калашников были Евразией, а в особенно пылкие минуты — Еврафрикой, тогда как Жанна Романовна была Австралией или даже замерзающей от одиночества Антарктидой. Как будто Антарктида сдает жилплощадь Еврафрике, и там эта площадь живая, а у Антарктиды — нет.
И тогда она отказала Зиночке от квартиры.
«Вы знаете, Зиночка, как я одинока, — так начала Жанна Романовна этот неприятный, но решительный разговор. — В целом мире у меня никого нет. Вы у меня одна… Вы и Калашников. Но с ним у меня нет той близости, какая с ним у вас… верней, какая у меня с вами… Вы мне как родная… — Жанна Романовна замялась: такая разница в возрасте. Сказать «сестра» — обидеть Зиночку, сказать «дочь» — обидеть себя. — Вы мне как родная… родственница… Я даже не знаю, что со мной будет без вас… А с ним? Вы о нем подумали?
«Жанна Романовна, завтра мы переедем. У меня есть двухкомнатный вариант, я сдам Калашникову комнату».
Жанна Романовна загрустила.
«Зиночка, вы человек крайностей. Оставаться — так всем оставаться. Переезжать — так всем переезжать. Калашникову переезжать не надо, зачем меня оставлять одну?
«Жанна Романовна, мы же взрослые люди!
С тех пор как Зиночка почувствовала себя взрослой, она постоянно всем доказывала, что она взрослая. Такова судьба современной женщины: до тридцати доказываешь, что ты уже взрослая, после тридцати, что ты еще молодая.
Утром они переезжали. Калашников стоял со своим чемоданчиком в коридоре, пока бригада грузчиков выносила вещи Зиночки.
Но вот вещи погружены, можно уходить. Калашников направляется к выходу — и в это время слышит спокойный голос Жанны Романовны: «Калашников, идите пить чай!
Он ставит чемодан и идет пить чай. «Мы же переезжаем!» — кричит ему вслед Зиночка. «Переезжаем», — отзывается Калашников и берет чемодан. «Чай уже на столе!» — предупреждает Жанна Романовна. Калашников ставит чемодан и идет пить чай.
Зиночка уже вышла за дверь и в последний раз крикнула оттуда: «Калашников!
Но Жанна Романовна успела крикнуть последней.
Дарий Павлович не зря напросился ночевать в киоске. Здесь, на этом месте, была когда-то их полуфизическая Лаборатория. Потому что здесь была одна из множества точек, где память человека подключается к памяти земли.
Он расположился на полу и прямо из киоска шагнул в Лабораторию.
И тут же увидел Дусю. И устремился к ней с проворством стрелки компаса, почуявшей север, но Ленчик прикрикнул на девушку; «Дуся, поставь на место товарища!» И объяснил Дарию Павловичу: «Это она так воздействует. У вас многие не верят, считают, что телекинез — это кино по телевизору, а мы это называли иначе: посмотрит — рублем подарит».
Дуся опять притягивала Дария Павловича. Может, она не знала, что она всего лишь воспоминание? Теперь уже ничто не имело смысла: ведь прошло столько лет.
Что он ей скажет? Что были такие времена и ему пришлось выбирать между нею и своим будущим? Он тогда думал: друзей у него будет много, а будущее у человека одно. Ему и потом приходилось выбирать между друзьями и будущим, и друзей становилось все меньше. Потому что он всегда выбирал будущее, считая, что оно у человека одно.
А оно не одно. Позднее, уже в старости, он понял, что будущих у человека — что дорог на земле, и выбираешь их каждый день, даже тогда, когда об этом не подозреваешь…
Дарий поискал глазами Мария. Тот сидел в глубине комнаты, к нему спиной. «Столько лет прошло, а он все еще не может забыть», — с горечью подумал Дарий Павлович.
Как будто они никогда не играли в греко-персидские войны, не маршировали по улицам мирного города, не подозревая, что охота на великих полководцев уже начата и ни на одной войне не погибло столько полководцев, сколько их погибнет в этом коротком мирном времени. Пусть бы они появились — те, которые будут вдохновлять нас в нашей борьбе, — Александры Невские и Дмитрии Донские, Александры Суворовы и Михаилы Кутузовы… Кто бы уцелел из них до начала предстоящей войны?
«Ну, как ты тут, Марий?» — спросил Дарий Павлович, и сам удивился вопросу: а, собственно, где это — тут? Марий что-то мастерил за столом и даже не обернулся.
Конечно, Дарий был виноват, но они забыли, какое было время. Они остались в том времени, в его правоте. Смерть как будто присвоила себе монополию на правоту: сколько ей ни толкуй, она ничего не слышит.
Не нужно было Дарию сюда приходить. Мертвые ничего не забывают и ничего не могут изменить в своей памяти. Они помнят жизнь такой, как она была, она остается в них, как самое яркое впечатление…
«Все-таки ты его притягиваешь, — сказал Ленчик. — До сих пор притягиваешь…
Они тогда шутили, что Дарий стал жертвой ее телекинеза: она передвигала его, как передвигают предметы на расстоянии. И ему было приятно перемещаться так, как хотелось ей, но при этом он старался сократить расстояние. Дуся тоже этого хотела: чем короче расстояние, тем меньше затрачиваешь энергии, воздействуя на объект, поэтому расстояние между ними все сокращалось…
В последний раз они виделись у кого-то на дне рождения. Во главе стола сидел краснолицый и рыжеволосый парень, которого все называли Вовой, но с таким уважением, словно произносили полностью имя, отчество, а также фамилию и занимаемую должность.
Вова был стотысячный житель провинциального города Хвелецка (или Хлевецка). В награду за это ему воздавали всяческие почести, а теперь вот послали в областной центр для повышения квалификации, — может быть, в надежде сделать из него миллионного жителя.