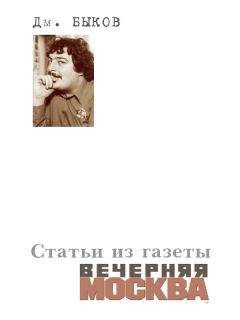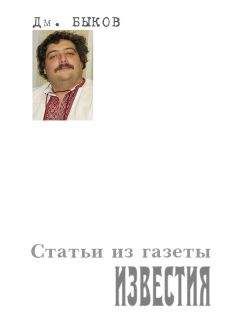№ 157, 25 августа 2010 года
Путин сейчас видит, что все, в общем, в порядке.
Что-то мне напоминает это путешествие Путина по Сибири и Дальнему Востоку. А, вспомнил! Это же один в один возвращение Солженицына, путешествие с целью знакомства со страной. Правда, лукавство любого путешествия в том, что много при таком скольжении не увидишь — заметишь только то, что соответствует твоим представлениям. Солженицын тогда увидел один развал и запустение. Путин сейчас видит, что все, в общем, в порядке. Думаю, гораздо плодотворней было бы наоборот, но чудес не бывает.
Дальневосточному киту ясно, что конечной точкой путешествия является Кремль. И хотя доехать от Белого дома до Кремля с мигалкой — пятиминутное дело, в нынешних условиях уместно вспомнить замечательную «Параболическую балладу» Андрея Вознесенского: «Чтоб в Лувр королевский попасть из Монмартра, он дал кругаля через Яву с Суматрой». Здесь, чтобы с Краснопресненской набережной доехать до Красной площади, приходится давать кругаля через Дальний Восток, Читу, Хабаровск: Но иначе не доедешь: стилистика общения с народом нуждается в радикальном обновлении. После пожаров вечное путинское «Все дадим, все сделаем» обнаружило свою роковую недостаточность.
Люди требуют заботы, внимания и конкретики. В Нижнем Новгороде премьера оскорбляли и закрикивали. Естественно, он хочет сгладить тогдашнее впечатление. Он хочет пообщаться с электоратом. Сама стилистика путешествия ориентирована на конечную цель — все на тот же Кремль. Ведь Путин не просто едет — он рулит! Мороз-воевода на «Ладе» объехал владенья свои: сама парадигма объезда владений ненавязчиво переводит Путина в ранг Хозяина. Интенсивно-канареечная машина наводит на мысль о желтой майке лидера.
Особенно много копий сломано вокруг интервью Владимира Путина Андрею Колесникову («Ъ»): сигнал недвусмысленный. В книге «От первого лица» Путин уже давал развернутое интервью этому журналисту (и Наталье Геворкян), и это было ровно перед выборами. Премьер, он же президент, он же национальный лидер, редко и неохотно беседует с отечественными СМИ. Если он взял Колесникова в машину и повез по новой, не успевшей еще капитально растрескаться дороге — это говорит о том, что ровное, стабильное обожание для него теперь недостаточно. Нужны новые информационные поводы и опытные журналисты — Колесников сам настолько обаятелен, что и люди, о которых он пишет, иной раз выражаются прелестно. Читаешь и думаешь: да чего уж такого, собственно, Путин-то?
Нормальный мужик, у меня вот дачный сосед похож: Беда лишь в том, что типичный дачный сосед на десятки лет попадает на самый верх — с его масштабом личности и представлением о том, что весь мир хочет его ограбить. И от этого диссонанса не спасет никакой Колесников. Да он и не хочет спасать, это там между строк.
А народ что ж — народ не против. Проезжает кто-то на странной желтой машине, и пусть себе. Надо жить своей жизнью, помогать себе самим, читать и смотреть что хочется и спасать себя тоже подручными средствами. А он, едущий где-то там по своей абсурдной параболе, — так далеко и настолько отдельно:
И это самое ценное, к чему приехал Владимир Путин за десять лет пребывания у руля нашей общей и тоже довольно смешной машины.
№ 162, 1 сентября 2010 года
Почин Совета Европы отказаться от слов «отец» и «мать», заменив их универсальным «родитель».
Почин Совета Европы отказаться от слов «отец» и «мать», заменив их универсальным «родитель», кажется мне поистине великим, но недостаточно радикальным. Конечно, любой намек на то, что мать женского рода, а отец — мужского, лишний раз напоминает о различии и, следовательно, неравенстве полов.
Конечно, для матерей безумно унизительна сама мысль о том, чтобы быть только матерями, то есть ограничивать свое земное предназначение кухней, детской и церковью. Обращение «отец» в русском контексте вообще оскорбительно — так поддатый сосед в трамвае обращается к любому пассажиру старше сорока. Не говорю уже о многочисленных коннотациях слова «мать», слишком актуальных для русского слуха. Хотя если уж речь идет о русских коннотациях, следовало бы запретить практически весь язык, ибо у нас нет слова, вокруг которого нельзя было бы выстроить обсценную конструкцию.
Как в классическом анекдоте про мастера, обещающего вступить в половую связь с подмастерьем, матерью подмастерья, заводом, планом и деталью. К этому, собственно, я и веду: запретить язык, ибо это первейший источник неравенства. Я не говорю уже о таких прямо дискриминационных терминах, как «мужчина» и «женщина», — ясно же, что любой, называющий женщину женщиной, мечтает запереть ее в четырех стенах и заставить вытирать детскую попу.
Любая продвинутая феминистка скажет вам, что материнство к этому только и сводится, а все высокие слова о священном долге матери и самом дорогом на свете слове «мать» придумали мужчины — исключительно для того, чтобы заставить женщин сосредоточиться на попе. Трудно, правда, будет все это объяснить крошечным европейцам, которым теперь вместо слова «мама» придется, вероятно, говорить «Евросоюз». Но ради равенства полов они постараются.
Итак, долой «мужчин» и «женщин»: только «европеец». Не знаю, правда, как справиться с этим в России: у нас ведь есть категория рода. «Европеец» или даже «гражданин» — опять мужской шовинизм. Видимо, надо придумать для обозначения человеческой особи слово среднего рода: «Вы, вы! Это! Да, я к вам обращаюсь. Не подскажете, как пройти в ближайший дурдом?»
Само собой, любая оценочная терминология упраздняется автоматически. «Красивая девушка» — пардон, «красивое девушко» — унижает некрасивое, которое стоит рядом, слышит это и может быть травмировано. «Хорошее фильмо» — но то человек, которое сняло нехорошее, может обидеться и покончить с собой, особенно если оно девушко или женщино.
А потому большинство качественных прилагательных следует вычеркнуть из языка, удалив также почти все цветовые: красное намекает на коммунизм, голубое — понятно на что, черное — на афроамериканцев, белое — на расистов, зеленое — на экологов, а коричневое — на то, что я обо всем этом думаю. Вообще, если уж идти до конца к правильному и справедливому миру, где царит политкорректность, — разумную речь следовало бы упразднить уже по одному тому, что одни владеют ею лучше, а другие хуже.
Сразу же ясно по выступлениям отдельных феминисток или монологам некоторых мачо, что оно такое безнадежное идиотко, которого не вылечит никакой Евросоюз. А потому оптимальным состоянием любого социума будет возвращение в ту доисторическую эпоху, когда большинство эмоций выражалось универсальным звуком «Ыыы» и соответствующими жестами волосатых лап. Родитель, роди меня обратно.
№ 167, 8 сентября 2010 года
Владимир Путин и Сильвио Берлускони — два политика, в чьей взаимной симпатии сомневаться не приходится — при очередной встрече обсудили проблему долголетия. Берлускони капитально вкладывается в научные разработки, которые скоро позволят человечеству доживать до 120 лет, — патронируемые им биологи работают и над этим.
Меня, правду сказать, не слишком интересует перспектива политического бессмертия Путина и Берлускони, поскольку итальянцы и россияне уже смирились, кажется, с бесконечным пребыванием этих людей наверху вне зависимости от того, как называются их должности. Увлекательнее другое: что это будет за человечество, научившееся жить до 120 лет? Очевидно, что продление жизни станет доступно лишь элите, несомненно и то, что жизнь прочего населения ухудшится и сократится за счет нового перераспределения ресурсов: жрать-то им надо будет, этим новым бессмертным?
Что касается их интеллектуальных перспектив, уже Свифт, выдумав знаменитых струдльбруггов — рожденных бессмертными, — усомнился в выигрышности этого билета. По его версии, после 90 наступает почти неизбежная деградация, а после 100 — растительное существование. Есть, правда, шанс, что у отдельных счастливцев умственные способности сохраняются и в глубокой старости, но лишь при условии изначально развитого интеллекта и регулярной умственной работы, а насколько наши элиты к ней склонны, видят все. Так что старческая мудрость им не светит, и счастливое новое человечество будет выглядеть поистине жутко: в нем будет процентов двадцать дряхлых маразматиков и процентов восемьдесят простых людей, живущих ярко, но скудно и кратко.
Хороша ли жизнь, при которой сам ты ничего толком не можешь, а все тебя при этом, мягко говоря, не любят? Достойна ли жизнь, для продления которой ты без всякого на то права пользуешься чужим ресурсом? Приятно ли бесконечно дотлевать, вертясь в кругу повторений, испытав все и панически боясь перейти на следующий виток, на котором, как знать, нас ждут радости более высокого порядка? Хорошо ли, наконец, покупать физическое бессмертие, заранее отказываясь от посмертной славы — ибо можно себе представить, какую память оставят по себе эти 120-летние властители и богачи, давно не могущие связать двух слов?