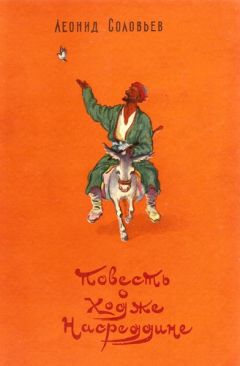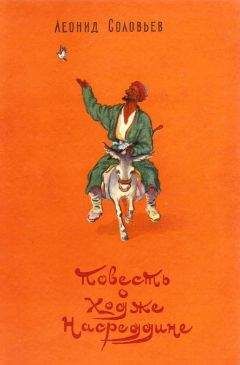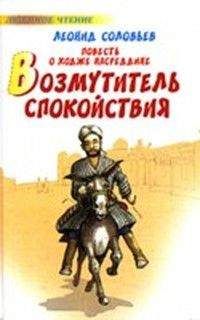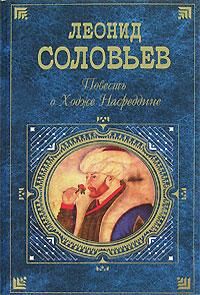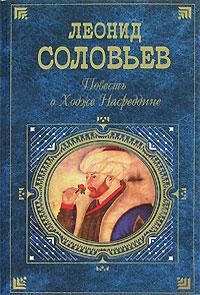— Ничего не понимаю, — повторил он. — Почтенный старец, здесь только вопросы, и — ни одного решения. Где земля, где люди, где их радости, горести и заботы, где, наконец, то самое деятельное добро, ради которого я, по твоим же словам, послан в мир? Как я могу творить добро в этом непроглядном тумане, где все недостоверно и сомнительно, и для кого должен я стараться, если здесь нет людей? И где зло, с которым я призван бороться, против кого оно устремлено? Против звезд?.. Нет, почтенный старец, высоты звездных постижений — не для меня; прошу, верни меня вниз, на землю, там мое место!..
По мере того как он говорил, — мерцающий старец все тускнел, тускнел и вдруг на глазах Ходжи Насреддина растаял, бесследно исчез. И все смутное вокруг исчезло, туман рассеялся — и опять к Ходже Насреддину вернулась его земля, где все можно видеть, слышать, осязать, исследовать, где живут люди в противоречивом сплетении своих страстей, самоотверженных усилий помочь друг другу — ив неизменном вечном устремлении всегда вперед, ко всеобъемлющему общему благу, в котором каждый сможет найти благо и для себя.
Ходжа Насреддин проснулся, открыл глаза. Вокруг была влажная темная свежесть; ветер, залетевший в беседку, скользнул прохладой по его лицу; сияли сквозь листву далекие звезды; была ночь — ее вторая половина, за полуночным рубежом.
Голова еще слегка болела, но мысли уже обрели привычную ясность. Ходжа Насреддин усмехнулся: нет, он старцу не попутчик в межзвездных полетах, его место, его родной дом — земля. Это, конечно, очень хорошо и возвышенно — постигать, но для себя он избирает простое земное понимание, в котором он — хозяин своих помыслов и дел.
Вернувшись раздумьями к озеру, он почувствовал себя полностью свободным от всех сомнений, тяготивших его накануне: все было ясно, просто и до конца бесспорно. «Удивительно, как же я раньше не сообразил!» — воскликнул он, не догадываясь, что и не мог сообразить, ибо избрал себе по этому поводу неправильных собеседников: кувшин и туманного старика.
Продолжим о воробье, о том, как он встретился с Ходжой Насреддином и что их свело.
За какие-нибудь полчаса до встречи они еще не думали друг о друге; оба — каждый отдельно — занимались своими делами на равных правах: воробей сидел наверху, на крыше чайханы, и, греясь в последних, уже красноватых лучах, громко чирикал, провожая благодарственной песней уходящее солнце, а Ходжа Насреддин сидел внизу, в чайхане, беседуя с чоракцами, окружившими его плотным кольцом.
Когда он пожаловал в чайхану — впервые с тех пор, как стал хранителем озера, а затем и владельцем его, — собравшиеся гости толковали как раз о нем: в какую сторону теперь он повернет их горестную жизнь? А он — легок на помине! — вдруг и появился, вынырнул из глубины джугарового поля, примыкавшего к чайхане. Словно бы нарочно — пришел не дорогой, а полем, чтобы застать врасплох.
Сафар забегал, засуетился; гости начали торопливо расходиться, дабы не мешать сиятельному чаепитию.
Но теперь в чайхану пришел не Узакбай, помощник и наследник Агабека, а Ходжа Насреддин!
— Куда вы, почтенные? — закричал он. — Чем я вас так обидел, что вы даже не хотите посидеть со мною? Сафар, вот тебе двадцать пять таньга и подавай чаю безотказно каждому, сколько он сможет вместить!
Чоракцы несказанно удивились этим приветливым словам. Они робко жались по стенам, не осмеливаясь прикасаться к чайникам, что хлопотливо разносил и ставил перед ними Сафар.
А сердце Ходжи Насреддина заливалось горячими волнами любовной жалости к ним, — до чего забиты они, запуганы, если не смеют даже чаю выпить, не смеют слова сказать! Этот маленький воробей (взгляд Ходжи Насреддина мимолетно упал на воробья — их соприкосновение началось) — даже он счастливее, свободнее в своей жизни!
Пришел Саид. На глазах потрясенных чоракцев новый владелец озера крепко с ним обнялся, как со старинным приятелем. Это было совсем уж непонятно: откуда знают они друг друга и почему до сих пор Саид молчал?
Страха поубавилось, — чоракцы взялись за чайники, иные придвинулись к Ходже Насреддину и вступили с ним в разговор.
В своей мазанке на бугре он давно соскучился по людям, по задушевной простой беседе и сейчас отдыхал душой от вынужденного отшельничества. Он расспрашивал чоракцев о их житье-бытье, о домашних делах, о недавней поломке моста близ мельницы, о здоровье заболевшей на днях кобылы гончара Бабаджана, — все творившееся в Чораке было ему досконально известно. Он сыпал веселыми шутками, обращаясь то к одному, то к другому; поздравил вполголоса Мамеда-Али с близкой свадьбой прекрасной Зульфии, такое же поздравление принес чайханщику Сафару.
Об одном только, о самом главном, так ничего и не хотел сказать — о воде и предстоящем поливе. Между тем эта именно мысль раскаленным гвоздем сидела в голове каждого чоракца и жгла язык.
Спросить осмелился Мамед-Али:
— Скажи, многопочтенный Узакбай, когда ты думаешь отпустить нам воду для полива и какую хочешь взять цену?
В чайхане сразу воцарилось безмолвие, — слышалось только неуемное звонкое чириканье с крыши.
Ходжу Насреддина пронзили десятки выжидающих взглядов.
— Воду вы получите ко времени, дня через три-четыре, сказал он. — О цене поговорим позже, накануне полива.
Чайхана вздохнула — вся разом, десятками грудей.
— Но если у нас не хватит денег?.. — начал Мамед-Али.
— Хватит! — прервал Ходжа Насреддин. — Вода будет на ваших полях; я сказал, а вы слышали.
Был второй общий огромный вздох. Вода будет! У всех отлегло от сердца: он, верно, и в самом деле добрый, благодетельный человек, этот Узакбай!
В самозабвенном благодарственном восторге щебетал, звенел и чирикал воробей на крыше, надуваясь от усердия так, что даже перья на нем все топорщились и шевелились, — как будто бы это ему пообещали воду на поля, жизнь и счастье в дом.
А чоракцы могли выразить свою радость лишь вздохами да вспыхнувшим светом в глазах.
— Да, вы получите воду! Вы получите воду и впредь будете получать ее для своих полей всегда без отказа! — Голос Ходжи Насреддина на мгновение пресекся, по телу пробежала дрожь, щекоча голову и бороду; если бы на нем были перья, то они бы встопорщились и зашевелились. — Верьте мне, черные дни для вас кончились!
И он замолчал. Он и так сказал слишком много за один раз. Чоракцы боялись пошелохнуться — только свет в их глазах разгорался все ярче.
Но земля есть земля, у нее свои законы, свои порядки, — надо их знать, и надо уметь ими пользоваться, дабы крылатые устремления нашего духа могли претвориться в дела. Ходжа Насреддин не позволил себе слишком долго парить в осиянных, чистейших высотах; усилием разума он опустился на землю, к ее действительной жизни, где все перемешано и перепутано: добро со злом, совершенство с несовершенством, благородство с низостью, прекрасное с безобразным, радость с горем и чистота с грязью. В этом смешении противоречивых начал и свойств надлежало теперь ему действовать — с умом и ловкостью, дабы увенчался его благородный замысел достойным концом.
Он обвел глазами чоракцев. Да, он любил их со всей силой и пламенем сердца, но это не мешало ему ясно видеть в их душах, наряду с высоким, чистым, благородным, — низменное, темное, своекорыстное. В том-то и заключалась плодотворность его любви, что он любил людей такими, какими были они в действительности, не превращая их в своем воображении в ангелов.
— Скажите, а по какому поводу подрались вчера Ширмат с Ярматом? — спросил он.
— Поспорили из-за старого сухого тутовника, предназначенного на дрова, — пояснил Сафар. — Каждый считал его своим — вот и подрались.
— Что же, не могли они распилить его пополам?
— Могли-то могли, но каждому хотелось получить его целиком для себя.
Все это Ходже Насреддину было давным-давно знакомо в людях.
Помолчав, он спросил:
— А скажите, вон тот хилый, чуть живой тополек близ дороги — кому он принадлежит?
— Это мой тополь! — с живостью отозвался гончар Дадабай. — Все знают, что мой!
Глаза его сузились, губы сжались, подбородок выпятился, — солоно пришлось бы тому, кто вздумал бы оспаривать у него этот чахлый, ценою в две таньга, тополек!
— Так, — сказал Ходжа Насреддин, — Пусть будет твой — не спорю! А вон тот куст ивняка, что склонился над арыком, — этот кому принадлежит?
— Мне! — поспешил заявить маслодел Рахман.
— Почему же тебе? — возразил земледелец Усман. — С чего ты взял?
— На моей земле, — значит, мой!
— Вот так раз! — воскликнул Усман. — Вы слышите, добрые люди! На его земле!..
— Конечно, на моей!
— Это мы еще посмотрим! — сварливым склочным голосом ответил Усман, багровея. — Он только склонился ветвями на твою сторону, а корни-то, корни — на моей земле!