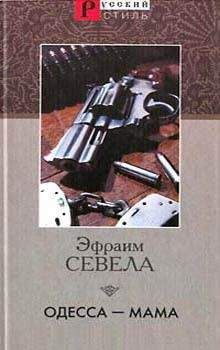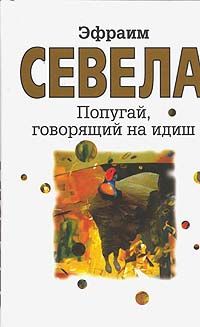Он соскучился тут один, нас дожидаючись. Никто не любит одиночества. Даже он.
Из кухни пахнет чем-то вкусным. Это он ужин приготовил. Интересно, для себя для одного или для всех для нас? Это у него зависит от настроения. Если депрессия — ест один. Сегодня, кажется, он в духе. Даже галантно ухаживает за обеими дамами. Помогает нам снять пальто. Мне тоже. Стряхивает снег. Надевает на вешалку.
— Скорей разувайся, — покривает он на маму. — У тебя совершенно мокрые ноги. Наживешь ревматизм.
— Не проявляй лицемерной заботы, — отмахивается мама.
— Почему лицемерной?
— Мог бы расщедриться на теплые сапоги для женщины, с которой спишь.
Я смотрю на Б. С. Каково? Съел?
— А это — идея, — после паузы говорит он. — Пошли ужинать.
Идея так и осталась идеей. Мама всю зиму проходила с мокрыми ногами. Женщины — очень выносливый народ.
Поздравьте меня. Я, кажется, выбиваюсь в люди. Наконец-то. Мужчины начинают проявлять ко мне интерес. На меня кладут глаз. Меня «клеют». На меня делают стойку.
Я и раньше знала, что если не лицом, то, по крайней мере, женскими формами буду волновать убогое мужское воображение. У меня, как и у мамы, аппетитный зад. Точного рисунка. Соблазнительно выдается. Только у меня — поменьше. А это еще ценней. Если верить опыту Б. С. Мой задик, мои упругие ягодички поместятся в двух мужских ладонях. За этот комплимент Б. С. схлопотал от мамы по шее. Не больно. Но явно ревниво.
У меня стройные ножки. Объективно. С худыми бедрышками. Между ними — соблазнительный зазор. Талия узкая. Не в пример маминой. И грудки. Еще только зародившиеся. Два диких яблочка. Недомерки. Но уже топорщат рубашку и свитер и уже вызывающе устремлены на всех встречных. На, мол, выкуси! Нас так не возьмешь! Мы себе цену знаем!
Вчера меня впервые зацепили на улице взрослые мальчишки. Из соседней школы. Наши девочки у них в цене. Мальчишки эти в старших классах. Усики пробиваются. И цепляют не для того, чтобы похулиганить, а нормально, чтоб познакомиться.
Я шла по тротуару. Мимо них. Как нож сквозь масло. Сапожки цокают высокими каблучками. Мои бедрышки и задик вкусно обтянуты синими джинсами. Джинсы небрежно завернуты на середине голенища. Свитер вздулся там, где угадываются грудки. Волосы, хорошо промытые, лежат на плечах. Берет, большой, самый модный, сдвинут так лихо, что не ясно, как держится, не свалится на плечо. В волосах лиловый плюшевый цветок, споротый с маминого платья.
Мальчишки разинули рты.
До этого дня они меня пропускали, не задевая. Стерегли других девчонок. Постарше. Сегодня я их ошарашила. Ослепила. Фрукт незаметно созрел. Да не для вас, бедные. Нам уготовано что-нибудь поярче.
— Эй, детка, — хором взвыли они мне вслед и пустились в погоню. — Тебя как звать?
Зашли с двух сторон, вылупились.
А я ножки ставлю. Ягодицами раскачиваю. Каблучками постукиваю. Цок, цок, цок, цок.
И так небрежно, как будто мне не впервой, роняю:
— Зачем вам мое имя?
— Чтоб познакомиться… зачем же еще?
— А зачем нам знакомиться?
— Ну, как? Для того… чтобы… — совсем сбились они. — Чтоб, значит… встречаться.
— Ошиблись адресом, — говорю я. — Я — лесбиянка.
Их как ветром сдуло. Я даже оглянулась назад. Торжествующе.
А сзади шел наш учитель физкультуры — известный гомосексуалист, из папиной братии. И, конечно, все слышал.
Он удивленно посмотрел на меня. Мол, нашего полку прибыло. Но ничего не сказал. Не станет же он со мной обсуждать здесь, на улице, проблемы однополой любви, как со своим коллегой по вывиху. Это — непедагогично. Но уж точно, отныне он будет на меня смотреть другими глазами. На уроках физкультуры мне обеспечена повышенная оценка, даже если я не буду проявлять особого прилежания. Они, гомики и лесбиянки, как любое меньшинство, да еще преследуемое, тянутся друг к другу, помогают. Как, например, евреи.
Я рассказала Б. С. об этом случае. Мамы дома не было. Он рассмеялся, хлопнул меня ладонью по заду. Не сильно, но у меня защемило в груди от волнения, а между ногами сделалось мокро.
— Молодец, старушка! — похвалил он. — Ты еще удивишь человечество.
У моей мамы абсолютно отсутствует женское чутье. Я имею в виду не кокетство, томные вздохи и загадочные взгляды, в которых никакой загадки нет, а нечто совсем иное, что можно назвать женской дипломатией, что ли?
Мужчину женщина завоевывает. Системой ловко расставленных засад. Мужчина — существо не слишком тонкое и легко глотает даже грубую приманку. Вот так, шаг за шагом, с одного крючка на другой движется он, болезный, навстречу своей гибели и — глядишь, попался, прочно сидит в западне.
К такому заключению я пришла, не только пользуясь книжными сведениями, а, в первую очередь, из подслушанных разговоров взрослых и моих собственных наблюдений за ними.
Моя мать, человек прямой, не терпит хитростей, и поэтому горит синим пламенем в своих неуклюжих попытках обуздать вольного мустанга Б. С., загнать его в семейные сети и связать по рукам и ногам брачными узами.
Как она не может понять, что я — единственный ребенок в доме, одна из вернейших отравленных приманок? Б. С. любит детей и свою тоску по собственному сынишке глушит игрою со мной. У него ко мне явный сентимент. Ему нравится со мной разговаривать. Даже больше, чем с мамой. Он любит сажать меня к себе на колени, зарывшись носом в мои волосы, нюхать их. Глаза его сразу теплеют, когда он видит меня. Он ко мне привязывается все больше и больше.
И мама вместо того, чтобы поощрять наше сближение, изо всех сил старается разрушить его. Не из ревности ко мне. Боже упаси! Такое за пределами ее воображения. Из материнской ревности, из эгоистического чувства собственника. Она не в состоянии разделить с Б. С. родительского права на меня.
И теряет последний шанс.
Помню, как-то я нахамила маме. В моем возрасте, переходном, как объясняют педагогические книги, это бывает. Ни с того, ни с сего упрусь, становлюсь грубой, враждебной. Мама обижена, потрясена. Даже Б. С. возмутился и встал на защиту мамы.
— Эх, и взгрел бы я тебя ремешком по заду! — строго сказал он мне, и я, вместо того, чтобы обидеться, обрадовалась.
— Взгрей меня, миленький. Выпори меня, дорогой, по голому заду, — мысленно взмолилась я.
Потому что я расту без отца. Без мужского влияния. И даже порка мужской рукой была бы признаком того, что я не одна, что есть кто-то, кого мое поведение беспокоит, что в нашем доме появилась строгая мужская рука.
Ведь выпороть чужого ребенка, к которому равнодушен, у нормального мужчины рука не поднимется. Значит, воспитательный порыв Б. С. был явным признаком того, что я ему не чужая, что он ко мне испытывает отцовские чувства, отцовскую обеспокоенность и гнев из-за моего нехорошего поведения. Коснись он меня ремнем, и наша связь уже стала бы куда прочнее.
Ничего этого не поняла моя мама.
— Пороть будешь своих детей, — с благородным негодованием отвергла она его услуги. — Я без твоей помощи разберусь со своим ребенком.
— Дура! — чуть не завопила я. — Ты так и останешься со своим ребенком до конца твоих дней.
Б. С., ни слова не говоря, ушел в свою комнату и захлопнул дверь.
Удивительная штука — чувство вины. Не за себя. А за свой народ. За страну, к которой ты принадлежишь. Здесь, на Западе — сплошное умопомешательство на этом чувстве.
Я, например, никогда не испытывала чувства вины за СССР. Хотя известно, что СССР наделал дел, за которые можно сгореть от стыда. Например, в Чехословакии. Или история с Солженицыным. Но у меня нет чувства вины. При чем тут я? Разве это было сделано по моей воле? Или хотя бы поинтересовались моим мнением, когда это делали?
У американцев чувство вины перед неграми. За то, что предки белых держали когда-то в рабстве предков черных.
Ну и что? Рабства-то давно нет и в помине! Черные пользуются такой свободой, какая в России светлокожим русским и во сне не снилась. С черными няньчатся, делают им поблажки, толкают учиться и платят стипендии. За уши тянут на самые высокие государственные должности. С ними возятся так, как с дефективными, и, будь я черной, я бы обиделась.
А черные что, говорят спасибо? Держи карман шире! Они откровенно презирают своих белых благотворителей. В сабвее, под землей — царство черных. Белый человек, попав туда, чувствует себя униженным меньшинством. На него глядят с вызовом и насмешкой. Только вот не плюют в лицо. А при удобном случае втыкают нож под ребро.
Немцы до сих пор, хотя прошло больше тридцати лет после Гитлера, несут на себе крест вины перед евреями, которых Гитлер травил газом и сжигал в крематориях. Уже выросло поколение немцев, которое Гитлера не знало, и такое же поколение евреев, а чувство вины передается от родителей детям.