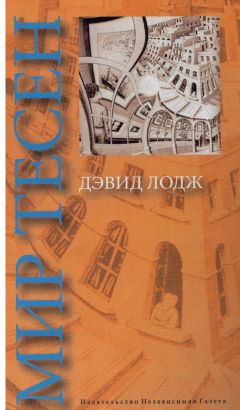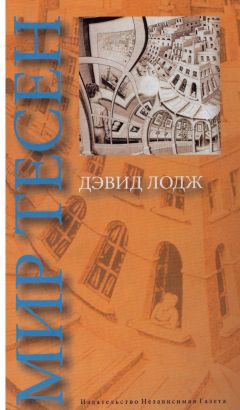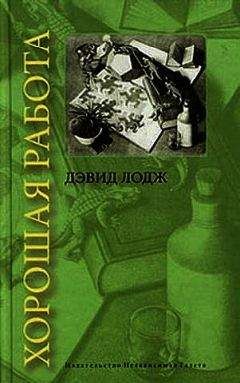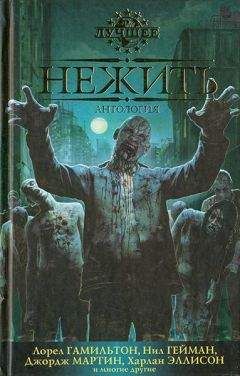— Я ему сказала, что за его освобождение была согласна заплатить сорок тысяч долларов — я даже начала собирать банкноты и складировать их в гостиничном сейфе, и разве я виновата, что похитители вдруг решили освободить его задаром?
— А что, так оно и было?
— Судя по всему, да. То ли они испугались, что их накроет полиция, то ли еще что-то. Кстати, полиция целиком на моей стороне; они даже считают, что, вступив в торг с похитителями, я подорвала их моральный дух. Местная пресса тоже меня поддержала. «Писательница с железными нервами» — так меня называют в журналах. Я сказала об этом Моррису, но он еще больше рассвирепел… Между прочим, эту историю я помещу в свою книгу. Дивный пример инверсии властных отношений между мужчиной и женщиной, когда мужчина попадает в зависимость от женского кошелька. Впрочем, конец истории я думаю изменить.
— Ага, пусть этот сукин сын умрет в ней собачьей смертью, — говорит Элис Кауфман. — А где он сейчас?
— В Иерусалиме. Там какая-то конференция, и он ее организатор. Еще ему не дает покоя то, что какой-то поганец по имени Говард Рингбаум, которого Моррис намеренно не пригласил на конференцию, воспользовался его отсутствием и добился приглашения от другого организатора. Можно подумать, ему больше не о чем беспокоиться, — а ведь еще совсем недавно он стоял одной ногой в могиле.
— Мужчины есть мужчины, милочка, — говорит Элис Кауфман. — Кстати о птичках, как продвигается твоя книга?
— Надеюсь, что после этой истории она сдвинется с мертвой точки, — отвечает Дезире.
Как подтвердил Мотокацу Умеда, Анжелика, чей доклад он комментировал в Гонолулу, через Токио намеревалась лететь в Сеул на конференцию по литературной критике и сравнительно-историческому литературоведению — по слухам, туда выманили, пообещав оплатить авиабилеты, немало важных персон из Парижа. Перс, уже и не помышляющий о разумной трате денег, снова помахивает свой волшебной бело-зеленой карточкой и отправляется в Сеул самолетом японской авиакомпании. На борту он встречает еще одного Помощника — в соседнем кресле сидит красивая молодая кореянка; она хлещет водку и дымит «Пэл-Мэлом», словно ее жизнь зависит от того, сколько беспошлинного спиртного и табака успеет она потребить, пока летит в самолете. Водка развязала ей язык, и она объясняет Персу, что едет из Штатов проведать семью и что в последующие две недели ей не видать ни выпивки, ни сигарет.
— Корея только кажется современной страной, — говорит она, — но в сущности она довольно консервативна, особенно в смысле поведения людей на публике. Представляете, когда я впервые попала в Штаты, то глазам своим не могла поверить: дети грубят родителям, молодежь целуется на людях — наблюдая это, я чуть не падала в обморок. То же касается сигарет и спиртного: у нас, если незамужняя девушка будет курить и выпивать в присутствии старших, они воспримут это как оскорбление. Если бы мои родители узнали, что я не только пью и курю при старших, но и живу с человеком, годящимся мне в отцы, они бы от меня отказались. Так что следующие две недели мне придется изображать благовоспитанную корейскую дочь: не курить, отказываться, если предлагают выпить, и говорить только тогда, когда ко мне обращаются. — Она нажимает кнопку вызова стюардессы и заказывает еще одну порцию водки. — Вообще, родители хотят, чтобы я вернулась домой и вышла замуж за парня, которого они мне подыскали: хотите верьте, хотите нет, но у нас в Корее существует заочное сватовство. Отец не может понять, чем мне не нравится его избранник. «Неужели ты не хочешь выйти замуж, — спрашивает он, — обзавестись хозяйством, рожать детей?» Что мне на это ответить?
— Сказать, что уже помолвлены, — предлагает Перс.
— Но я не помолвлена, — печально говорит девушка. Зовут ее Сонг Ми Ли, и судя по тому, какими именами она небрежно бросается в разговоре, Перс понимает, что в Соединенных Штатах она вращается в высоких академических кругах. Она говорит ему, что конференция по литературной критике и сравнительно — историческому литературоведению скорее всего будет проходить в Корейской академии наук — в специально построенном для этих целей здании за пределами Сеула. Из центра города туда можно добраться на такси, но сначала нужно оговорить с водителем оплату и не давать ему больше семисот вон. После приземления Перс провожает девушку до зала прилета: совершенно трезвая и с застенчивой улыбкой на губах, она машет встречающим ее с букетами родителям, одетым в сшитые на заказ европейские костюмы.
В Корее сезон муссонов, и в Сеуле влажно и душно. Центр города опоясан безликими бетонными пригородами, жители которых, по-видимому, настолько запуганы транспортом, что предпочитают обретаться в подземных лабиринтах — туда же перенесены и сверкающие витринами магазины. Перс добирается на такси до Корейской академии наук: это комплекс зданий современной постройки в восточном стиле, расположенный у подножья невысоких лесистых холмов. Конференция по литературной критике и сравнительно — историческому литературоведению завершила свою работу — Перс этому уже не удивляется, — и ее участники разъехались; впрочем, кое-кто отправился на экскурсию в южную часть полуострова. Перс садится в поезд, который тащит его через затопленные рисовые поля, чередующиеся с окутанными туманом холмами, — пейзаж хоть и зеленый, но насквозь промокший и безрадостный. Конечный пункт — курортный город Конжу, изобилующий памятниками старины, часовнями и современными отелями, а также известный своим искусственным озером, по которому плавает прогулочный катер из стеклопластика в форме гигантской белой утки; сойдя с него, Перс встречает не Анжелику, но профессора Мишеля Тардьё в компании трех улыбающихся корейских профессоров — все трое при знакомстве называют себя Ким. От француза Перс узнаёт, что Анжелика была на конференции, но на экскурсию не поехала. Кажется, припоминает Тардьё, она отправилась на другую конференцию, в Гонконг.
На календаре середина августа: иерусалимская конференция Морриса Цаппа, посвященная будущему литературной критики, в разгаре. Все ее участники единодушны в том, что такой прекрасной конференции еще не было. Моррис цветет и пахнет. Секрет его успеха очень прост: официальные мероприятия конференции сведены к минимуму. Ежедневно, с утра пораньше, зачитывается один-единственный доклад, другие же распространяются среди участников в ксерокопиях, и остаток дня посвящается «свободному обсуждению» затронутых тем или, другими словами, посещению бассейна в «Хилтоне», осмотру Старого Города, походу за покупками на базар, обедам в ресторанах, а также вылазкам в Иерихон, Иорданскую долину и Галилею.
Таким распорядком недовольны лишь израильские ученые: все они — честолюбивые профессионалы, которые дожидались момента скрестить мечи перед солидным международным сообществом; достопримечательности же Иерусалима и его пригородов их вовсе не интересуют. Однако прочие участники блаженствуют — за исключением Родни Вейнрайта, который до сих пор не дописал своего доклада. Единственный законченный труд в его чемодане — это курсовая работа Сандры Дикс, сданная ему накануне вылета из Австралии. Ее тема — «Теория культуры в понимании Мэтью Арнольда»; начинается она так:
Как говорит Мэтью Арнольд, культура — это знакомство с людьми, которые лучше всех помогут вам в интересующих вас делах. Мэтью Арнольд был всем известный директор школы, он написал «Школьные годы Тома Брауна» и придумал регби, а также теорию культуры. Если вы не поставите мне за эту курсовую хорошей оценки, я расскажу вашей жене, что в этом семестре мы три раза у вас в кабинете занимались сексом, и во время учебной пожарной тревоги вы оставили меня в комнате, потому что не хотели, чтобы нас видели вместе.
При воспоминании об этой курсовой Родни Вейнрайта бросает то в жар, то в холод. Он без малейших колебаний поставил Сандре высший балл и захватил работу с собой в Израиль, опасаясь, что Беверли или коллеги в его отсутствие случайно наткнутся на нее, роясь в ящиках его стола. Но еще больший ужас охватывает его при мысли о докладе, который застрял на фразе «Вопрос, однако, состоит в том, каким образом литературная критика…» Ах, если бы он закончил доклад вовремя! Тогда бы его размножили и раздали участникам конференции, и было бы неважно, насколько он убедителен или вообще вразумителен, — никто не читает этих бумажек, и они валяются в мусорных корзинах по всему «Хилтону». Но так как Родни Вейнрайт не закончил доклада и не сдал его Моррису Цаппу по прибытии, то его назначили докладчиком — да, ему оказана высокая честь лично зачитать свой доклад на предпоследнем заседании (об этой отсрочке Родни был вынужден убедительно просить организаторов конференции).
Поэтому неудивительного Родни Вейнрайт не может броситься в вихрь удовольствий, закрутивший участников конференции. В то время, когда они плещутся в бассейне, или выпивают в баре, или бродят по Старому Городу, или едут на экскурсию в автобусе с кондиционером, он сидит в своем номере с опущенными жалюзи и, обливаясь потом, корпит над докладом. А если позволяет себе отлучку, то мучается угрызениями совести. Праздность и беспечность коллег действуют на него угнетающе, и за неделю к докладу не прибавляется ни строчки. По мере того как приближается день публичного позора, Родни Вейнрайт сосредоточивает озлобление на одном — единственном человеке — Филиппе Лоу. Именно он больше всех раздражает Родни своей щегольской бородкой, визгливой английской интонацией и на редкость сексапильной любовницей. И что она в нем нашла? Наверное, этот Лоу похотлив, как старый козел, и не слезает с нее с утра до ночи: Родни Вейнрайт живет в соседнем номере, и они нередко отвлекают его во время ночного бдения над докладом или в послеполуденный тихий час своими любовными вскриками и стонами, особенно громкими, если прижаться ухом к стенке; когда же он вечером выходит на балкон размять затекшие ноги, то там уже непременно торчит Лоу в обнимку со своей Джой, которая восторгается бликами заката на куполах Старого Города, в то время как он щупает под халатом ее титьки. Однажды утром Родни застал Джой врасплох — она загорала без лифчика на балконе, полагая, что он, как и все, на заседании, — и убедился, что такие титьки не грех и пощупать, хотя они и не столь впечатляющи, как у Сандры Дикс. Впрочем, Сандра Дикс, когда ее щупает Родни, удовольствия совсем не испытывает — тоже касается и прочих эротических номеров: во время секса она демонстративно чавкает жевательной резинкой, а если и нарушает молчание, то лишь для того, чтобы спросить, скоро ли он кончит, И ради этой жалкой подачки он рисковал семьей в Куктаунс! Здесь в Иерусалиме, в преддверии громкого провала Родни Вейнрайт чувствует себя еще более паршиво под аккомпанемент сладострастных вздохов, раздающихся из соседнего номера.