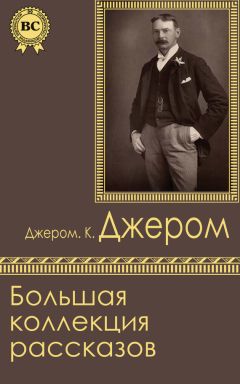Я забочусь не о поддержании своего женского достоинства и права: это ведь одни пустые слова; пусть думают и говорят обо мне, что угодно. Мне нужно одно: его любовь, его ласки, его поцелуи и объятья. Он мой. Он когда-то любил меня, одну меня. Я отказалась от него только потому, что мне казалось интересным разыграть из себя святую. Но это была ложь. Лучше мне быть дурной, лишь бы удержать его любовь. Зачем я обманула самое себя? Ведь он мне необходим, как воздух, без которого я не могу дышать. Мне ничего не нужно, кроме его любви, его поцелуев…»
Еще несколько таких строк, а потом:
«Боже мой! что я пишу? Неужели у меня нет стыда, нет самолюбия, нет силы воли?.. О Господи, помоги мне!..»
На этом дневник прерывается. Больше ни слова.
Некоторые из ее писем были подписаны «Крис», а другие полным именем: «Кристиан» и к этому имени была присоединена фамилия, которую я хорошо знал. Эта фамилия принадлежала одному известному художнику, руку которого я часто пожимал. Я вспомнил его довольно красивую, но суровую жену и его большой, холодный и неуютный дом-дворец в Кенсингтоне, походивший скорее на музей, в котором собраны художественные произведения, чем на жилое здание. И в этом доме-музее, где постоянно толклись чужие люди, сам хозяин, бледный, изможденный, вечно раздраженный и резкий на язык, ходил как один из случайных гостей, – не тех гостей, которые приходят повеселиться, а тех, которые своими посещениями отбывают неприятную повинность и не могут скрыть этого.
Рядом с этим измученным славою и богатством лицом вставало передо мною милое и трогательно печальное личико молодой девушки, оригинала портрета, и когда я взглянул в темный угол, она снова представилась мне в своем выцветшем лиловом платье с кружевами и смотрела на меня большими, мягкими и жалобными глазами.
Я встал, достал из шкафа портрет и хотел вынуть его из рамки, чтобы узнать имя оригинала, которое наверняка было написано на обороте. Ни в дневнике, ни в книгах я не находил этого имени; очевидно, девушка не любила его и избегала писать. Но как раз в эту минуту вошла хозяйка, неся скатерть и чайную посуду.
– Я доставал книги, – сказал я, указывая на шкаф, – и когда я вынимал их с верхней полки, на пол выпал вот этот миниатюрный портрет молодой особы. Лицо кажется мне знакомым, но я никак не могу припомнить, где я его видел. Может быть, вы знаете, кто это?
Хозяйка взяла у меня из рук портрет, и по ее давно поблекшему лицу, носившему еще слабые следы былой красоты, пробежал легкий румянец.
– Так вот где он оказался! – воскликнула она. – Странно, что мне никогда не приходило в голову искать его среди этих книг… Это мой портрет. Он много лет назад был списан с меня одним знакомым художником.
Я перевел глаза с портрета на эту женщину, стоявшую передо мною в легкой мгле надвигающегося вечера, и мне казалось, что я только теперь в первый раз увидел ее.
Конечно, это были те же черты, только сильно измененные временем; те же большие темные глаза, только запавшие глубоко в орбиты и потухшие от лет и слез.
– Да, да, полное сходство, – по возможности развязно проговорил я, стараясь скрыть свое смущение. – И как это я сразу не разглядел такого поразительного сходства?
Вскоре я покинул это тихое местечко, но история портрета произвела на меня такое впечатление, что я даже решился описать ее.
VII. «ВСЕОБЩИЙ БЛАГОДЕТЕЛЬ»
Это был очень интересный субъект. Люди, имевшие возможность наблюдать его непосредственно, с самого его младенческого возраста, рассказывали мне, что девятнадцати месяцев от роду он неутешно плакал по поводу того, что бабушка не позволяла ему кормить ее с ложки, а трех с половиною лет он был выловлен из кадки с водою, в которую забрался с целью научить пребывавшую там на дне лягушку плавать, как плавают «большие мальчики».
Два года спустя он повредил себе правый глаз, пытаясь внушить кошке, как следует перетаскивать с места на место котят, не причиняя им боли. В тот же период он был сильно ужален в лицо пчелою, которую хотел пересадить с одного цветка на другой, более, по его мнению, для нее подходящий в смысле извлечения из него сладкого сока.
Вообще он всегда стремился помогать другим. Например, он по целым часам читал наставления курам, как следует высиживать цыплят, и часто отказывался от прогулок и игр со сверстниками, чтобы остаться дома со своей белкой и разъяснить ей, какие орехи более пригодны для нее.
Будучи около семи лет от роду, он вел споры со своей матерью относительно ухода за грудными детьми и упрекал отца в неумении воспитывать более взрослых детей, в том числе и самого его.
Он был очень добрый мальчик и всегда охотно позволял своим товарищам по школе списывать у него решение задач, мало того, что позволял, но даже чуть не насильно навязывал плоды своих трудов тем, которые и не просили его об этом. Он делал это от души. К несчастью, его решения постоянно оказывались неверными, и товарищи, срезавшиеся на них и, подобно всем людям, малым и большим, считавшиеся не с побудительными причинами, а лишь с одними результатами побуждений, по выходу из класса отплачивали ему за полученные из-за него дурные отметки доброй порцией тумаков.
Все его силы уходили на учение других, так что их не оставалось на то, чтобы учиться самому. Помню такой случай. Во время очень бурного переезда по каналу он бросился на капитанский мостик и стал было «учить» старого морского волка, как править кораблем. Разумеется, его тут же попросили удалиться на свое пассажирское место и не соваться не в свое дело.
Я познакомился с ним в трамвае при следующих обстоятельствах. Я сидел между двумя дамами, когда кондуктор пришел собирать плату за проезд. Одна из моих соседок вручила ему шестипенсовик с просьбою высадить ее у цирка Пиккадилли, куда проезд стоил только два пенса. Другая моя соседка оказалась подругой первой. Вынув из портмоне шиллинг и передавая его кондуктору, она сказала первой даме:
– Нет, милочка, мы сделаем иначе. Я должна тебе шесть пенсов. Ты отдашь мне четыре, а я уплачу за нас обеих.
Кондуктор взял шиллинг, выдал два билета по два пенса и занялся разрешением заданной ему мудреной арифметической задачи.
– Не беспокойтесь, так будет верно, – убеждала его моя соседка слева. – Дайте моей подруге четыре пенса сдачи. (Кондуктор покорно исполнил это требование.) А ты, – обратилась она к подруге, – отдай мне эти четыре пенса назад… Вот так. Теперь вы, – новое обращение к кондуктору, – отдайте мне восемь пенсов. Ну, вот, все в порядке, – заключила она, когда получила и эти восемь пенсов.
Кондуктор вышел из вагона на площадку, ворча себе под нос о напрасном обременении его такими сложными денежными операциями. И я невольно посочувствовал ему.
– Теперь я должна тебе шиллинг, – заявила моя соседка слева своей подруге.
Я счел инцидент исчерпанным. Но вдруг сидевший напротив джентльмен, цветущего вида, крикнул трубным голосом:
– Эй, кондуктор! Вы обочли этих дам на четыре пенса.
– Что вы сочиняете?! – с негодованием возразил появившийся вновь в дверях кондуктор. – Ведь я выдал им два билета по два пенса…
– Ну да. Но два билета по два пенса составляют не восемь, а всего четыре пенса, – продолжал трубить цветущий джентльмен и, обратившись к моей соседке справа, вежливо спросил: – Позвольте узнать, мэм, сколько вы изволили отдать кондуктору?
– Шесть пенсов, – ответила та, роясь в своем кошельке. – А потом я отдала своей подруге четыре пенса.
– Нет, нет, ты ошибаешься! – горячо запротестовала соседка слева. – Ведь мы начали с того, что я была тебе должна шесть пенсов…
– Да, но я все-таки отдала тебе четыре пенса, – настаивала ее спутница.
– Вы дали мне шиллинг, – вмешался кондуктор, тыча пальцем в мою соседку слева.
– Верно, – подтвердила та.
– А я дал вам сдачи сначала шесть пенсов, потом еще два пенса, не так ли? – продолжал кондуктор.
– И это верно, – согласилась дама.
– Потом я отдал вон той, – снова бесцеремонное тыканье пальцем в другую мою соседку, – четыре пенса, не так ли?
– А я тут же передала их ей! – подхватила эта дама.
– Ну, вот и выходит, что я обсчитал не кого-нибудь из вас, а самого себя на четыре пенса! – решил кондуктор. – Кто же теперь вернет их мне?
– Но ведь одна из этих леди дала вам шесть пенсов, – снова вступился цветущий джентльмен.
– Ну да, и я не отказываюсь от этого. Совершенно верно, эта вон пассажирка, – опять ткнул пальцем кондуктор, – дала мне шесть пенсов, которые я потом и вернул вон той. Хотите, обыщите меня, и вы увидите, что у меня ни в сумке, ни в карманах нет шестипенсовой монеты. Я как получил ее, так тут же и передал назад из рук в руки. Говорю: я обсчитал не их, а самого себя, и теперь мне интересно знать, с кого я получу назад свои деньги?
После дальнейших переговоров между дамами, цветущим джентльменом и кондуктором все у них до такой степени перепуталось в уме, что никто из четырех заинтересованных лиц уже не мог сказать ничего точного; они только противоречили и себе и друг другу. Цветущий джентльмен взялся было разобрать дело, к общему удовольствию, но в результате получилось то, что, еще не доезжая до первого места стоянки, дамы и их заступник обвинили кондуктора в присвоении чужой собственности; кондуктор пригласил полисмена; последний записал имена и адреса дам, чтобы возбудить против них судебное преследование за неуплату следуемых с них за проезд четырех пенсов (дамы вовсе не отказывались уладить возникшее между ними и кондуктором недоразумение возвращением или отдачей ему этой суммы, но цветущий джентльмен препятствовал им в этом); одна из подруг прониклась уверенностью, что другая хотела обмануть ее на четыре пенса, и обвиняемая в этом истерически разрыдалась.