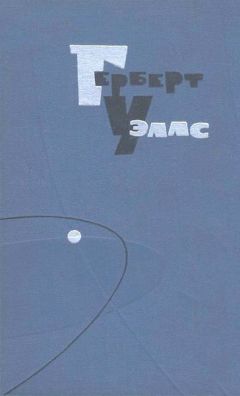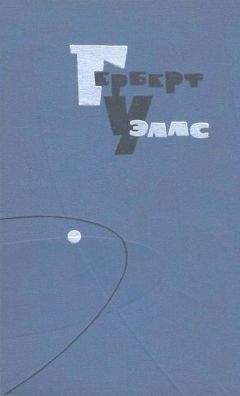— Не пойму, — бормотал он. — Не пойму.
Он обращался к толпе — она валила за ним по пятам, беспрестанно меняясь, подступала с боков. Речь его была отрывиста и бессвязна:
— Я и не знал, что есть на свете такие места! Что вы все тут делаете день-деньской? И для чего это все? Для чего это все, и к чему тут я?
Сам того не ведая, он пустил по свету новые ходкие словечки. Еще долго молодые острословы весело спрашивали друг друга: «Эй, Гарри! Для чего это все? А? Для чего все это непотребство?»
В ответ раздавался взрыв острот, по большей части не слишком пристойных. Из пригодных для общего пользования самыми ходкими оказались: «Заткнись ты!» и презрительное: «Пшел вон!»
Вошли в обиход ответы и похлестче.
Чего он искал? Он стремился к чему-то, чего не мог ему дать мир пигмеев, к какой-то своей цели; пигмеи мешали ему достичь ее или хотя бы разглядеть; ему так и не суждено было ее увидеть. Страстная жажда общения сжигала этого одинокого молчаливого гиганта; он тосковал по обществу себе подобных, по делу, которое полюбил бы и которому мог бы служить, искал близких — кого-нибудь, кто указал бы ему понятную и полезную цель в жизни и кому он рад был бы повиноваться. И поймите, тоска эта была немая, бессловесная; она яростно клокотала у него в груди, и, даже встреть он собрата-великана, едва ли он сумел бы высказать все это словами. Что он знал в жизни? Тупое однообразие деревенских будней, обыденные разговоры немногословных фермеров; все это не отвечало и не могло ответить самым ничтожным из его гигантских запросов. Невообразимый простак, он ничего не знал ни о деньгах, ни о торговле, ни о других хитросплетениях, на которых зиждется общество маленьких людишек и все их существование. Он жаждал… но, чего бы он ни жаждал, ему не суждено было эту жажду утолить.
Весь день и всю ночь напролет он шел и шел, уже голодный, но все еще неутомимый; он видел, как на разных улицах движется различный транспорт, и вновь и вновь пытался постичь, чем же заняты эти крохотные деловитые козявки. Для него все это было лишь сумятицей и неразберихой…
Говорят, в Кенсингтоне он вытащил из коляски какую-то леди в наимоднейшем вечернем платье и внимательно осмотрел ее от шлейфа до голых лопаток, а потом с глубоким вздохом, хоть и довольно небрежно, водворил на место. Но за точность этих слухов я не ручаюсь. Чуть ли не целый час он стоял в конце Пикадилли и наблюдал, как люди дрались за места в омнибусах. К концу дня он какое-то время маячил над стадионом Кеннингтон Овал, глядя на крикет, но тысячные толпы, околдованные этим загадочным для него зрелищем, даже не заметили великана, и он, тяжело вздохнув, побрел дальше.
Незадолго до полуночи он снова попал на площадь Пикадилли и увидел совсем иную толпу. Эти люди явно были очень озабочены, спешили заняться чем-то дозволенным, а может быть, и тем, что не дозволено (а почему — бог весть). Они пялили на него глаза, на ходу глумились над ним, но шли мимо, не задерживаясь. Вдоль запруженного пешеходами тротуара нескончаемым потоком тянулись по мостовой наемные экипажи, извозчики хищным взглядом выискивали себе седоков. Люди входили и выходили из дверей ресторанов, одни солидные, важные, озабоченные, другие веселые или разнеженные, третий уж такие настороженные и проницательные, что их не обсчитал бы и самый продувной официант. Стоя на углу, молодой великан приглядывался ко всей этой суете.
— Для чего это все? — с тоской спрашивал он громким шепотом. — Для чего? Они все такие серьезные, такие занятые, а я ничего не понимаю. В чем тут дело?
Он видел то, чего никто здесь не замечал: как жалки отупевшие от пьянства накрашенные женщины, которые часами маячат на углу, и несчастные оборванцы, что крадутся вдоль водостоков, как невыразимо пуста и никчемна вся эта кутерьма. Пустота и никчемность. Им всем было невдомек, к чему стремится этот великан, этот призрак будущего, ставший у них на дороге.
Напротив, высоко в небе, то вспыхивали, то гасли таинственные знаки; умей Кэддлс читать, они рассказали бы ему, как узки человеческие интересы, как ничтожно все, к чему стремятся и чем живут эти козявки. Сначала появлялось огненное: «В», затем последовало «И»: «ВИ». Затем «Н»: «ВИН» — и наконец в небе целиком загорелась радостная весть для всех, кто подавлен бременем жизни:
ВИНО ТАППЕРА ПРИДАСТ ВАМ БОДРОСТИ!
Миг — и все исчезло во мраке, а потом на месте этой надписи так же постепенно, по одной букве, обозначилось второе всеобщее утешение:
МЫЛО «КРАСОТА»!
Заметьте: не просто моющее химическое средство; но некий, так сказать, идеал.
А вот и третий кит, на котором покоится вся мелочная жизнь пигмеев:
ЖЕЛУДОЧНЫЕ ПИЛЮЛИ ЯНКЕРА!
Больше ничего нового не появлялось. В черную пустоту одна за другой опять выстреливались огненно-красные буквы, выводя те же слова:
ВИНО ТАП…
Уже глубокой ночью молодой Кэддлс, очевидно, пришел под прохладную сень Риджент-парка, перешагнул через ограду и прилег на поросшем травой склоне, неподалеку от зимнего катка. Здесь он часок вздремнул. А в шесть утра видели, как он разговаривал с какой-то нищенкой: вытащил ее из канавы, где она спала, и настойчиво допытывался, для чего она живет на свете…
Утром на второй день скитаний по Лондону настал для Кэддлса роковой час. Его одолел голод. Некоторое время он в нерешительности смотрел, как грузили повозку горячим, душистым хлебом, а потом тихонько опустился на колени — и начался грабеж. Покуда пекарь бегал звать полицию, Кэддлс очистил всю повозку, а затем огромная рука просунулась в булочную и опустошила прилавки и полки. Он набрал побольше хлеба и, не переставая жевать, пошел по другим лавкам, высматривая, чего бы еще перехватить. А тогда как раз (не впервые) пришла для лондонцев плохая пора: работы никакой не найдешь, съестное не по карману, — и жители того квартала даже сочувственно смотрели на великана, который смело брал желанную для всех, но недоступную еду. Они одобрительно хлопали, глядя, как он завтракает, и дружно засмеялись глуповатой гримасе, которой он встретил полицейского.
— Я был голодный, — объяснил он с набитым ртом.
— Браво! — ревела толпа. — Браво!
Но когда он принялся за третью пекарню, уже человек десять полицейских стали дубасить его по икрам.
— А ну-ка, милейший, пойдем отсюда, — сказал ему один. — Тебе разгуливать не полагается. Пойдем, я отведу тебя домой.
Его очень старались арестовать. Говорят, по улицам разъезжала, гоняясь за ним, повозка с якорными цепями и канатами, — они должны были при аресте заменить наручники. Тогда его еще не собирались убивать.
— Он не участвует в заговоре, — заявил Кейтэрем. — Я не хочу, чтобы мои руки обагрила кровь невинного. — И прибавил: — Пока не будут испробованы все другие средства.
Сначала Кэддлс не понимал, чего от него хотят. А когда понял, то предложил полицейским не валять дурака и, широко шагая, пошел прочь — где уж им было его догнать. Булочные он ограбил на Хэрроу-роуд, но в два счета пересек Лондонский канал и очутился в Сент-Джонс-вуд, уселся в чьем-то саду и начал ковырять в зубах; тут на него и напал второй отряд полицейских.
— Да отвяжитесь вы от меня! — рявкнул он и неуклюже затопал через сады, вспахивая ногами лужайки и опрокидывая заборы; однако маленькие рьяные служители порядка не отставали, пробираясь кто садами, кто проезжей дорогой. У двух или трех были ружья, но их не пускали в ход. Потом Кэддлс выбрался на Эджуэр-роуд — здесь толпа была уже настроена совсем по-иному и конный полицейский наехал гиганту на ногу, но в награду за такое усердие тотчас был выбит из седла.
Кэддлс обернулся к затаившей дыхание толпе.
— Отвяжитесь вы от меня! Что я вам сделал?
К этому времени он был безоружен, так как забыл кайло в Риджент-парке. Но теперь бедняга, видно, понял, что ему нужно хоть какое-то оружие. Он вернулся к товарным складам Большой Западной железной дороги, выворотил высоченный фонарный столб и вскинул на плечо, точно гигантскую булаву. Тут он опять завидел своих назойливых преследователей, повернул назад по Эджуэр-роуд и угрюмо зашагал на север.
Он дошел до Уотэма, вновь повернул на запад и опять двинулся к Лондону, миновал кладбища, перевалил через холм Хайгейта — и среди дня передним снова раскинулся огромный город. Здесь он свернул в сторону и уселся в каком-то саду, опершись спиной о стену дома; отсюда ему был виден весь Лондон. Он тяжело дышал, лицо его потемнело — и народ больше не толпился вокруг, как в первый раз; люди попрятались в соседних садах и осторожно поглядывали на него из укрытий. Они уже знали, что дело куда серьезнее, чем казалось сначала.
— Чего они ко мне привязались? — ворчал молодой гигант. — Надо же мне поесть. Чего они никак не отвяжутся?