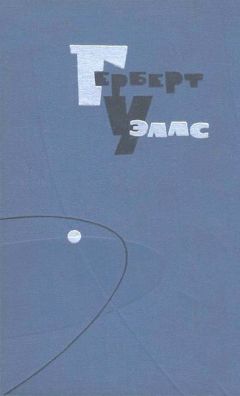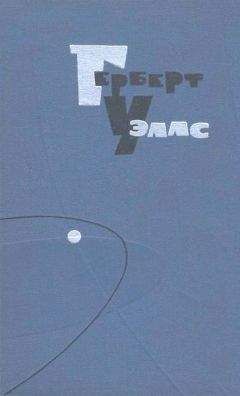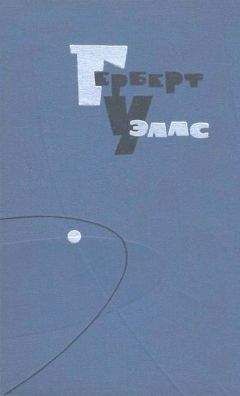Это случилось после экзамена по сравнительной анатомии, накануне того дня, когда служащие наглухо заперли двери колледжа, а студенты разъехались на рождественские каникулы. Зубрежка и возбуждение перед первым испытанием временно оттеснили на задний план все остальные интересы Хилла. Как и другие студенты, он строил догадки о результатах экзаменов и с удивлением заметил, что никто не считает его возможным претендентом на Гарвеевскую юбилейную медаль[15], присуждение которой определялось исходом этого и еще двух экзаменов. Примерно в это же время Хилл начал замечать, что Уэддерберн, на которого он до тех пор почти не обращал внимания, становится его соперником. За три недели до экзаменов Хилл и Торп по обоюдному согласию прекратили ночные прогулки, а квартирная хозяйка объявила Хиллу, что за обычную плату она не в состоянии доставлять ему такую уйму керосина. После занятий в колледже он бродил по улицам, вооружившись узенькими листками бумаги, на которых были перечислены органы раков, черепные кости кроликов, вертебральные нервы и прочее, и зубрил все это до тех пор, пока не стал в конце концов настоящим бедствием для встречных прохожих.
Потом наступила естественная реакция, и его рождественские каникулы были целиком заполнены стихами и темноглазой девушкой. Еще необъявленные результаты экзамена настолько отошли на задний план, что Хилл просто не понимал отцовского волнения. Все равно учебника сравнительной анатомии в Лендпорте не было, а покупать книги Хилл по бедности не мог. Зато в библиотеке был неисчерпаемый запас стихов, и он с жадностью на них накинулся. Он растворился в убаюкивающих строфах Лонгфелло и Теннисона, почерпнул твердость в Шекспире, нашел родственную душу в Попе и учителя в Шелли и не поддался завлекающим голосам таких сирен, как Элиза Кук и миссис Хименс[16]. Только Браунинга он больше не читал, так как надеялся получить остальные томики в Лондоне у мисс Хейсмен.
Возвращаясь в колледж после каникул, он нес первый томик в своем лоснящемся черном портфеле, а ум его был занят множеством весьма тонких мыслей и соображений о поэзии вообще. Разумеется, он сразу же сочинил на эту тему небольшую речь, а потом и еще одну, поменьше, чтобы украсить церемонию возвращения книги ее владелице. Утро выдалось редкостное для Лондона: было морозно и ясно, легкая дымка смягчала контуры предметов, с безоблачного голубого неба лились теплые лучи солнца; пробиваясь между громадами домов, они одели в янтарь и золото солнечную сторону улицы. В холле колледжа Хилл снял перчатки и расписался, но пальцы его так окоченели, что характерный росчерк, который он себе выработал, превратился в какие-то зигзаги. Образ мисс Хейсмен не покидал его-ни на минуту. На площадке лестницы он увидал толпу у доски объявлений. Может быть, это список биологов? Мгновенно позабыв о Браунинге и о мисс Хейсмен, Хилл устремился в самую гущу. Он кое-как протолкался к списку и, прижавшись щекой к рукаву человека, который стоял ступенькой выше, прочел:
РАЗРЯД 1
Х. Дж. Сомерс Уэддерберн
Уильям Хилл
а дальше следовал второй разряд, который нас сейчас не интересует. Примечательно, что он даже не потрудился разыскать имя Торпа в списках физического отделения, а сразу же выбрался из давки и стал подниматься по лестнице со странным смешанным чувством презрения к остальному второразрядному человечеству и острой досады на Уэддерберна. Наверху, в коридоре, когда он вешал пальто, демонстратор зоологического кабинета, недавно окончивший Оксфорд и в душе считавший Хилла крикуном и «зубрилой», каких свет не видывал, обратился к нему с самыми сердечными поздравлениями.
Остановившись на минуту у дверей, чтобы перевести дыхание, Хилл вошел в лабораторию. Окинув комнату взглядом, он увидел, что все пять студенток уже сидят на своих местах, а Уэддерберн — еще недавно такой застенчивый Уэддерберн — непринужденно прислонился к подоконнику и, поигрывая кистями шторы, беседует со всеми пятерыми сразу. Конечно, у Хилла хватило бы смелости и даже самоуверенности на то, чтобы завязать разговор с одной девушкой; он не смутился бы, даже если бы ему пришлось произнести речь в комнате, битком набитой девицами. Но он отлично понимал, что так свободно и уверенно держать себя, так легко парировать выпады собеседников ему было бы не по плечу. Только что, поднимаясь по лестнице, он готов был отнестись к Уэддерберну великодушно, пожалуй, даже с некоторым восхищением и открыто и сердечно пожать ему руку, как противнику, с которым провел всего только один раунд. Однако до рождества Уэддерберн ведь никогда не заводил бесед в этом конце комнаты. Туман легкого возбуждения, окутывавший Хилла, вдруг сгустился в чувство острой неприязни к Уэддерберну. Вероятно, это отразилось на его лице. Когда он подошел к своему месту, Уэддерберн небрежно кивнул ему, а остальные переглянулись. Мисс Хейсмен бросила на него мимолетный взгляд и отвела глаза.
— Не могу согласиться с вами, мистер Уэддерберн, — сказала она.
— Поздравляю вас с первым разрядом, мистер Хилл, — сказала девушка в очках, поворачиваясь к нему и приветливо улыбаясь.
— Пустяки, — сказал Хилл, не спуская глаз с Уэддерберна и мисс Хейсмен, разговаривавших между собой, и сгорая от желания узнать, о чем они между собой говорят.
— Мы, жалкие второразрядники, смотрим на это иначе, — сказала девушка в очках.
О чем это там рассказывает ей Уэддерберн? Что-то об Уильяме Моррисе! Хилл не ответил девушке в очках, и улыбка на ее лице погасла. Ему было плохо слышно, и он никак не мог придумать, как бы «влезть» в их разговор. Проклятый Уэддерберн! Хилл уселся, открыл портфель и хотел было сразу же, на глазах у всех, отдать мисс Хейсмен томик Браунинга, но вместо этого вынул новую тетрадь для сокращенного курса элементарной ботаники, который студенты должны были прослушать в январе и феврале. И сразу же в дверях лекционного зала появился полный, грузный человек с бледным лицом и водянисто-серыми глазами — профессор ботаники Биндон, который приехал на два месяца из Кью; молча потирая руки и благодушно улыбаясь, он прошелся по лаборатории.
В течение ближайших шести недель Хилл испытал целый комплекс внезапных и новых для него эмоциональных потрясений. Внимание его было сосредоточено главным образом на Уэддерберне, о чем мисс Хейсмен и не подозревала. Она сказала Хиллу (в сравнительном уединении музея, где происходили их свидания, они много говорили о социализме, о Браунинге и общих проблемах), что встретилась с Уэддерберном у знакомых и что «у него наследственная одаренность: ведь известный Уэддерберн, крупный специалист по глазным болезням, — его отец».
— Мой отец — сапожник, — ни с того ни с сего сказал Хилл и тут же почувствовал, что эти слова не делают ему чести. Однако такая вспышка зависти не задела мисс Хейсмен: ей казалось, что это ревность, которую она сама же и вызвала. А он мучился, сознавая превосходство Уэддерберна и считая, что тот бессовестно использует свое преимущество. Везет же этому Уэддерберну: подцепил себе знаменитого папашу, и ему еще ставят это в заслугу, вместо того чтобы по справедливости вычесть у него с полсотни баллов в виде компенсации! Ведь вот Хиллу пришлось самому завоевывать внимание мисс Хейсмен и неуклюже беседовать с ней в лаборатории о несчастных морских свинках, а этот Уэддерберн какими-то задворками пробрался на ее социальные высоты, чтобы там болтать с ней на том изысканном жаргоне, который Хилл более или менее понимал, но говорить на котором не умел. Кстати сказать, он к этому не очень-то стремился. Кроме того, он считал бестактностью и даже издевательством со стороны Уэддерберна изо дня в день являться на лекции в превосходном костюме со свежими манжетами, выбритым, подстриженным, безупречным во всех отношениях. И совсем уже низостью было то, что Уэддерберн вначале вел себя так робко, притворялся скромником, позволил Хиллу вообразить себя звездой первой величины, а потом внезапно стал ему поперек дороги. К тому же у Уэддерберна появилась склонность вмешиваться в любой разговор, если при этом присутствовала мисс Хейсмен, и, конечно, он всегда искал случая опорочить идеи социализма и атеизма. Он так изощрялся в поверхностных, но весьма метких и язвительных замечаниях по адресу социалистических лидеров, что доводил Хилла до грубых выходок; в конце концов Хилл почти так же возненавидел изысканную самовлюбленность Бернарда Шоу, роскошные обои, и золотообрезные книги Уильяма Морриса, и восхитительно нелепых идеальных рабочих из романов Уолтера Крейна, как ненавидел самого Уэддерберна. Страстные дебаты в лаборатории, в свое время стяжавшие Хиллу славу, выродились в опасные и бесславные стычки с Уэддерберном, которых Хилл не старался избежать только из смутного сознания, что тут затронута его честь. Он отлично понимал, что в дискуссионном клубе под оглушительный аккомпанемент хлопающих пюпитров он в два счета разгромил бы Уэддерберна. Но Уэддерберн неизменно уклонялся от посещения клуба и от разгрома, оправдываясь — экое отвратительное позерство! — тем, что он «поздно обедает».