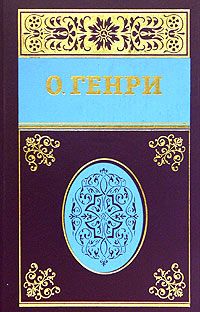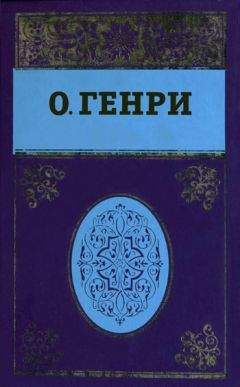В конце дня он вынырнул из сутолоки и рева с застывшим от ужаса лицом. Он был растерян, удручен, испуган. Другие города он перелистывал, словно букварь; видел их насквозь, как сельскую красотку; разгадывал, как ребусы «вместе-с-ответом-присылайте-плату-за-подписку»; проглатывал, как устричный салат. Этот же был холоден, ослепителен, безмятежен и недоступен, словно четырехкаратовый брильянт в глазах влюбленного приказчика из отдела галантереи, который смотрит на витрину, ощупывая потными пальцами в кармане свое недельное жалованье.
Ему знаком был отклик других городов — их доморощенное благодушие, их чисто человеческая гамма грубоватой отзывчивости, дружеской бранчливости, болтливого любопытства, откровенной доверчивости и столь же откровенного безразличия.
Этот же, Манхэттен, не выдал себя ничем, отгородившись неприступными стенами. Как стальная река, он тек мимо Рэглза по улицам. Никто и взгляда на него не бросил; никто с ним не заговорил. Каким желанным казался ему сейчас дружеский тычок закопченной ручищи Питтсбурга; грозный окрик общительного скандалиста Чикаго; тусклый, снисходительно брошенный в монокль взгляд Бостона… даже незаслуженный, но беззлобный пинок Луисвилля или Сент-Луиса.
На Бродвее Рэглз, обольститель многих городов, засмущался, как деревенский увалень. Впервые испытал он жгучее унижение незамечаемого. А когда он попробовал подогнать под какой-то стандарт этот искрящийся, струящийся, леденящий город, у него не вышло ровным счетом ничего. Даже глаз поэта не улавливал здесь ни оттенков, ни штришков для метафоры или сравнения, ни единой царапинки на отполированных гранях, ни одной зацепки, ухватившись за которую он мог бы повертеть город и так и сяк и разглядеть его форму и строение, как не раз бесцеремонно, а зачастую свысока обходился он с другими городами. Дома — оскалившиеся бойницами бесчисленные бастионы, люди — окрашенные в живые цвета, но бескровные призраки, марширующие мрачным строем себялюбцев.
Больше всего угнетал Рэглза и обуздывал его поэтическую фантазию дух эгоцентризма, казалось пропитавший всех прохожих, словно краска детскую игрушку. Каждый, на ком он останавливал свой взгляд, представлялся ему чудовищем бесстыдного и гнусного самодовольства. В этих людях не было ничего человеческого: словно каменные идолы, ковыляли они по улицам, поклоняясь лишь себе и взыскуя поклонения других таких же идолов. Равнодушные, безжалостные, непостижимые и неумолимые, скроенные все на один образец, они спешили по своим делам, похожие на мраморные статуи, которые привел в движение какой-то чародей, не сумев пробудить в них мысли и чувства.
Мало-помалу Рэглз выделил несколько типов. Первый — пожилой джентльмен с белоснежной бородкой, гладким розовым лицом и жестким взглядом прозрачных голубых глаз, разодетый, как юный франт, и словно олицетворяющий богатство, процветание и ледяное бездушие города. Второй тип — высокая, красивая женщина, четкая, как гравюра на стали, невозмутимая, как богиня, одетая, словно принцесса старинных времен, с льдисто-синими глазами, подобными отражению солнечного луча на глетчере. И еще один тип, побочный продукт этого города марионеток, — чванливый, угрюмый, грозный в своей безмятежности здоровяк, с челюстью, обширной, как сжатая нива, с румянцем только что извлеченного из купели младенца и кулаками боксера. Представители этого типа подпирали плечами вывески табачных лавок и с негодующим презрением взирали на мир.
Поэты — создания чувствительные, и вскоре Рэглз зябко съежился в неласковых объятиях неопределимого. Холодное, сфинксоподобное, ироничное, непроницаемое, ненатуральное, жесткое выражение этого города подавило и обескуражило его. Да есть ли у него сердце? Лучше уж ночевки в стоге сена, брань хозяек, с уксусными лицами отчитывающих тебя у черного хода; благодушная издевка провинциальных буфетчиков у стоек с бесплатной закуской; ласковая свирепость сельских констеблей, пинки, каталажки, шальные причуды тех других, шумливых и вульгарных грубиянов городов, чем это ледяное бессердечие.
Собравшись с духом, Рэглз стал просить подаяния. Отчужденная и безучастная толпа спешила мимо, и никто и бровью не повел в знак того, что его существование замечено. И тогда он окончательно уверился в том, что этот прелестный, но неотзывчивый город лишен души, что обитатели его — манекены, приводимые в движение проволочками и пружинками, а единственное одушевленное существо в этой необъятной пустыне — он сам.
Рэглз побрел через улицу. Взрыв, грохот, треск, и он отлетел вверх тормашками, отброшенный на шесть ярдов от того места, где только что был. Падая, словно патрон взорвавшейся шутихи, он видел, как земля и все земные города превратились в раздробленный сон.
Рэглз открыл глаза. Прежде всего он уловил аромат — так пахнут первые весенние цветы, распускающиеся в райских кущах. Потом чела его коснулась ручка, нежная, как падающий лепесток. Женщина, одетая, как принцесса старинных времен, склонилась над ним, и ее льдисто-синие глаза смотрели ласково, увлажненные простой человеческой жалостью. Под его затылком на мостовой шелестели шелка и меха. Держа шляпу Рэглза и порозовев больше обычного после пылкой речи, в которой он заклеймил злодеев-возчиков, стоял пожилой джентльмен, олицетворяющий богатство и процветание города. Из ближайшего кафе спешил побочный продукт с обширной челюстью и младенческим румянцем, держа в руке стакан, наполненный темно-красной влагой, сулящей восхитительные перспективы.
— На, хлебни-ка, приятель, — сказал продукт, поднося стакан к губам Рэглза.
Спустя мгновение вокруг уже толпились сотни людей, чьи лица выражали глубочайшее участие. Два величественных полисмена, протиснувшись к Рэглзу, заботливо ограждали его от мощного напора самаритян. Старая дама в черной шали громогласно толковала о камфаре, мальчишка-газетчик подсунул одну из газет под локоть Рэглза, оказавшийся в луже. Шустрый юноша записывал в блокнот фамилии.
Внушительно зазвонил колокол, и санитарная карета расчистила себе дорогу в толпе. Невозмутимый врач сноровисто и быстро приступил к осмотру.
— Как себя чувствуете, старина? — спросил он, наклоняясь над Рэглзом.
Принцесса в шелках и атласе смахнула душистой паутинкой несколько красных капелек, выступивших на лбу Рэглза.
— Я-то? — с блаженной улыбкой спросил Рэглз. — Лучше некуда.
Он обнаружил наконец сердце нового города.
Через три дня его перевели в палату для выздоравливающих. Он не пробыл там и часа, когда санитары услышали шум потасовки. Как выяснилось в ходе расследования, Рэглз, учинив неожиданное нападение, оскорбил действием соседа по палате, желчного любителя новых впечатлений и мест, угодившего в больницу в результате крушения товарного поезда.
— Что тут у вас случилось? — осведомилась сестра.
— Этот тип хаял мой город, — сказал Рэглз.
— Какой город? — спросила сестра.
— Нью-Йорк, — ответил Рэглз.
Русские соболя{38}
(Перевод Т. Озерской)
Когда синие, как ночь, глаза Молли Мак-Кивер положили Малыша Брэди на обе лопатки, он вынужден был выйти из банды «Дымовая труба». Такова власть нежных укоров подружки и ее упрямого пристрастия к порядочности. Если эти строки прочтет мужчина, пожелаем ему испытать на себе столь же благотворное влияние завтра, не позднее двух часов пополудни, а если они попадутся на глаза женщине, пусть ее любимый шпиц, явившись к ней с утренним приветом, даст пощупать свой холодный нос — залог собачьего здоровья и душевного равновесия хозяйки.
Банда «Дымовая труба» заимствовала свое название от небольшого квартала, который представляет собой вытянутое в длину, как труба, естественное продолжение небезызвестного городского района, именуемого Адовой кухней. Пролегая вдоль реки, параллельно Одиннадцатой и Двенадцатой авеню, Дымовая труба огибает своим прокопченным коленом маленький, унылый, неприютный Клинтон-парк. Вспомнив, что дымовая труба — предмет, без которого не обходится ни одна кухня, мы без труда уясним себе обстановку. Мастеров заваривать кашу в Адовой кухне сыщется немало, но высоким званием шеф-повара облечены только члены банды «Дымовая труба».
Представители этого никем не утвержденного, но пользующегося широкой известностью братства, разодетые в пух и прах, цветут, словно оранжерейные цветы, на углах улиц, посвящая, по видимости, все свое время уходу за ногтями с помощью пилочек и перочинных ножиков. Это безобидное занятие, являясь неоспоримой гарантией их благонадежности, позволяет им также, пользуясь скромным лексиконом в две сотни слов, вести между собой непринужденную беседу, которая покажется случайному прохожему столь же незначительной и невинной, как те разговоры, какие можно услышать в любом респектабельном клубе несколькими кварталами ближе к востоку.