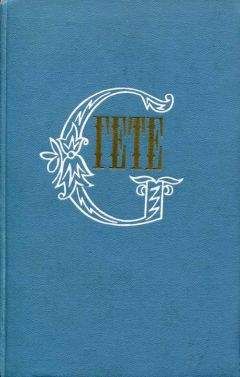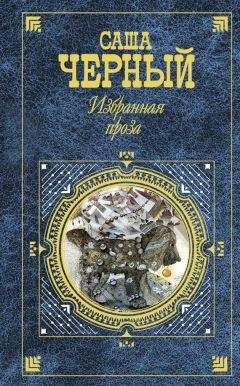Между 1909 и 1910
Я знаком по последней версии
С настроеньем Англии в Персии
И не менее точно знаком
С настроеньем поэта Кубышкина,
С каждой новой статьей Кочерыжкина
И с газетно-журнальным песком.
Словом, чтенья всегда в изобилии —
Недосуг прочитать лишь Вергилия
Говорят: здоровенный талант!
Но еще не мешало б Горация —
Тоже был, говорят, не без грации…
А Шекспир, а Сенека, а Дант?
Утешаюсь одним лишь — к приятелям
(чрезвычайно усердным читателям)
Как-то в клубе на днях я пристал:
«кто читал Ювенала, Вергилия?»
Но, увы, (умолчу о фамилиях),
Оказалось, никто не читал!
Перебрал и иных для забавы я:
Кто припомнил обложку, заглавие,
Кто цитату, а кто анекдот,
Имена переводчиков, критику…
Перешли вообще на пиитику —
И поехали. пылкий народ!
Разобрали детально Кубышкина,
Том шестой и восьмой Кочерыжкина,
Альманах «Обгорелый фитиль»,
Поворот к реализму Поплавкина
И значенье статьи Бородавкина
«О влияньи желудка на стиль»…
Утешенье, конечно, большущее…
Но в душе есть сознанье сосущее,
Что я сам до кончины моей,
Объедаясь трухой в изобилии,
Ни строки не прочту из Вергилия
В суете моих пестреньких дней!
1911
К вопросу о «кризисе современной русской литературы»
Рожденный быть кассиром в тихой бане
Иль агентом по заготовке шпал,
Семен бубнов сверх всяких ожиданий
Игрой судьбы в редакторы попал.
Огромный стол. Перо и десть бумаги —
Сидит бубнов, задравши кнопку-нос…
Не много нужно знаний и отваги,
Чтоб ляпать всем: «возьмем», «не подошло-с!»
Кто в первый раз — скостит наполовину,
Кто во второй — на четверть иль на треть…
А в третий раз — пришли хоть требушину,
Сейчас в набор, не станет и смотреть!
Так тридцать лет чернильным папуасом
Четвертовал он слово, мысль и вкус,
И наконец опившись как-то квасом,
Икнул и помер, вздувшись, словно флюс.
В некрологах, средь пышных восклицаний,
Никто, конечно, вслух не произнес,
Что он, служа кассиром в тихой бане,
Наверно, больше б пользы всем принес.
1912
Жестокий бог литературы!
Давно тебе я не служил:
Ленился, думал, спал и жил, —
Забыл журнальные фигуры,
Интриг и купли кислый ил,
Молчанья боль, и трепет шкуры,
И терпкий аромат чернил…
Но странно, верная мечта
Не отцвела — живет и рдеет.
Не изменяет красота —
Всё громче шепчет и смелеет.
Недостижимое светлеет,
И вновь пленяет высота…
Опять идти к ларям впотьмах,
Где зазыванье, пыль и давка,
Где все слепые у прилавка
Убого спорят о цветах?..
Где царь-апломб решает ставки,
Где мода — властный падишах…
Собрав с мечты душистый мед,
Беспечный, как мечтатель-инок,
Придешь сконфуженно на рынок —
Орут ослы, шумит народ,
В ларях пестрят возы новинок, —
Вступать ли в жалкий поединок
Иль унести домой свой сот?..
1912
Гессен сидел с Милюковым в печали.
Оба курили и оба молчали.
Гессен спросил его кротко как Авель:
«есть ли у нас конституция, Павел?»
Встал Милюков. запинаясь от злобы,
Резко ответил: «еще бы! еще бы!»
Долго сидели в партийной печали.
Оба курили и оба молчали.
Гессен опять придвигается ближе:
«Я никому не открою — скажи же!»
Раненый демон в зрачках Милюкова:
«Есть для кадет! а о прочих — ни слова… »
Мнительный взгляд на соратника бросив,
Вновь начинает прекрасный Иосиф:
«Есть ли… »но слезы бегут по жилету —
На ухо Павел шепнул ему: «нету!»
Обнялись нежно и в мирной печали
Долго курили и долго молчали.
1909
Я позвал их, показал им
Пирог и предложил условия.
Большего им и не требовалось.
«Эмиль» Ж-Ж Руссо
Устав от дела бюрократ
Раз, вечером росистым,
Пошел в лесок, а с ним был штат:
Союзник с октябристом.
Союзник нес его шинель,
А октябрист — его портфель…
Лесок дрожал в печали,
И звери чуть дышали.
Вдруг бюрократ достал пирог
И положил на камень:
«Друзья! Для ваших верных ног
Я сделаю экзамен:
За две версты отсель, чрез брод,
Бегите задом наперед.
И кто здесь первый будет —
Пирог себе добудет».
Вот слышен конский топ,
И октябрист, весь в мыле,
Несется к камушку в галоп —
Восторг горит на рыле!
«Скажи, а где наш общий брат?» —
Спросил в испуге бюрократ.
«Отстал. Под сенью ветел
Жида с деньгами встретил… »
— «А где пирог мой?» — октябрист
Повел тревожно носом
(Он был немножко пессимист
По думским ста вопросам).
Но бюрократ слегка икнул,
Зачем-то в сторону взглянул,
Сконфузился, как дева,
И показал на чрево.
1909
Я видел в карете монаха,
Сверкнула на рясе звезда…
Но что я при этом подумал
Я вам не скажу никогда!
Иду — и наткнулся на Шварца
И в страхе пустился бежать…
Ах, что я шептал по дороге —
Я вам не решаюся сказать!
Поднялся к знакомой курсистке.
Усталый от всех этих дел,
Я пил кипяченую воду,
Бранился и быстро хмелел.
Маруся! Дай правую ручку…
Жизнь–радость, страданье–ничто!
И молча я к ней наклонился…
Зачем? Не скажу ни за что!
1910
И мы когда-то, как тиль-тиль,
Неслись за синей птицей!
Когда нам вставили фитиль —
Мы увлеклись синицей.
Мы шли за нею много миль —
Вернулись с черной птицей!
Синицу нашу ты, тиль-тиль,
Не встретил за границей?
1909
У меня серьезный папа —
Толстый, важный и седой;
У него с кокардой шляпа,
А в сенях городовой.
Целый день он пишет, пишет —
Даже кляксы на груди.
Подойдешь, а он не слышит
Или скажет: «уходи».
Ухожу… у папы дело,
Как у всех других мужчин.
Только как мне надоело:
Все один да все один!
Но сегодня утром рано
Он куда-то заспешил
И на коврик из кармана
Ключ в передней обронил.
Наконец-то… вот так штука.
Я обрадовался страсть.
Кабинет открыл без звука
И как мышка, в двери — шасть!
На столе четыре папки,
Все на месте. Всё точь-в-точь.
Ну-с, пороемся у папки —
Что он пишет день и ночь?
«О совместном обученье,
Как вреднейшей из затей»,
«Краткий список книг для чтенья
Для кухаркиных детей»,
"В думе выступить с законом:
Чтобы школ не заражать,
Запретить еврейским женам
Девяносто лет рожать»,
«Об издании журнала
“Министерский детский сад”»,
«О любви ребенка к баллам»,
«О значении наград»,
«Черновик проекта школы
Государственных детей»,
«Возбуждение крамолой
Малолетних на властей»,
«Дух законности у немцев
В младших классах корпусов»,
«Поощрение младенцев,
Доносящих на отцов».
Фу, устал. В четвертой папке
«Апология плетей»
Вот так штука… значит папка
Любит маленьких детей?
1909
Благодарю тебя, создатель,
Что я в житейской кутерьме
Не депутат и не издатель